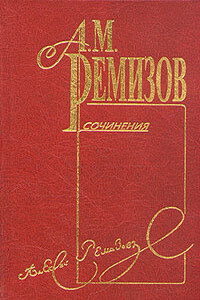"А возможно, что весь сумрачный сон его не к нему вовсе, к Акумовне относился. Или это невозможно, за другого нельзя видеть! А почему бы и не увидеть!"
Но суббота еще не кончилась, шла ночь, наступили последние часы, близился час идти на ответы:
самому отвечать и требовать ответов.
Акумовна принесла самовар, доела для голоса яйца и вернулась к Маракулину и по привычке с картами в руках. Но Маракулин отказался от карт, ему не надо гадать он ей свой сон семицкий расскажет, только пусть она скажет правду.
И стал он рассказывать весь свой сумрачный сон по порядку, отчетливо он его помнил, и рассказал он про курносую, зубатую, голую назначившую ему срок - субботу, и о матери своей с крестом на лбу, как заплакала мать.
- Что этот сон означает, Акумовна!
Молчала Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому, из стороны.
И снова пораженный внезапной сумрачной мыслью, что срок ему - суббота, он поледенел весь.
"Стало быть,- подумал он,- все правда,- и почему Акумовна молчит! стало быть, правда, сейчас через несколько минут наступит ему срок, его час - конец?"
Родился человек на свет и уж приговорен, все приговорены с рождения своего и живут приговоренными и совсем забыв о приговоре, потому что не знают часа, но когда сказан день, когда отмерено время и положен срок, указана суббота, нет, это уж выше сил человеческих, данных богом человеку, которого, наделив жизнью, приговорил, но час смерти утаил от него.
Акумовна, так правда это или неправда?
- Я черный человек, я ничего не знаю,- ответила Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому, из стороны.
И вот часы на кухне захрипели и медленно стали отбивать часы час за часом.
И пробило двенадцать.
Кончилась суббота,- началось воскресенье.
- Акумовна, двенадцать пробило? - робко Маракулин.
- Двенадцать, ровно двенадцать.
- Настало воскресенье?
- Воскресенье, воскресный день, спите спокойно.
Господь с вами!
Акумовна, оставив певучий журавлевский самовар, пошла себе на кухню спать.
А разве он может спать?
Выждав, пока Акумовна угомонилась, и прикрыв самовар, Маракулин взял подушку и, положив подушку на подоконник, как делают бурковские жильцы, летующие лето в Петербурге, прилег на нее и, держась руками за подоконник, перевесился на волю.
Нет, он не заснет, он во всю ночь не заснет суббота кончилась, настало воскресенье!
Было пусто на дворе, ни одного человека, и ни одного человека в окнах, только он один.
И вдруг он увидел на мусоре и кирпичах вдоль шкапчиков-ларьков от помойки и мусорной ямы к каретному сараю все зеленые березки,- весь Бурков двор уставлен был березками,- и зеленые такие, зеленые листики.
И почувствовал он, как медленно подступает, накатывается та самая прежняя необыкновен-ная его потерянная радость: ключом выбивала откуда-то из-под сердца эта его необыкновенная радость горячая, и росла, наполняя сердце, и, горячая, заполняла грудь.
Уж ничего не видел он, только видел он березки, и вдоль березок, сама как березка, та Вера - Верушка - Верочка... и слипались ее руки с листьями, от листка к листку пробиралась она к сараю, будто по воздуху, и словно земля проваливалась по следу ее.
И вот перепорхнуло сердце, переполнилось, вытянуло его всего, вытянулся он весь, протя-нул руки -
И, не удержавшись, с подушкой полетел с подоконника вниз...
И услышал Маракулин, как кто-то, точно в трубочку из глубокого колодца, сказал со дна колодца:
- Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко. Вот как у нас, лежи! Одним стало меньше, больше не встанешь. Болотная голова.
Маракулин лежал с разбитым черепом в луже крови на камнях на Бурковом дворе.
1910, 1922