Краткая история фотографии - [4]
>Надар (Гаспар Феликс Турнашон). Портрет Жорж Санд. 1877 г. [Здесь и далее: ] Частное собрание. Москва.
Своей безбрежной печалью этот снимок контрастирует с ранними фотографиями, на которых люди еще не получили такого выражения потерянности и отрешенности, как этот мальчик. Их окружала аура, среда, которая придавала их взгляду, проходящему сквозь нее, полноту и уверенность. И снова очевиден технический эквивалент этой особенности; он заключается в абсолютной непрерывности перехода от самого яркого света до самой темной тени. Между прочим, закон предвосхищения новых достижений силами старой техники проявляется и в этом случае, а именно в том, что прежняя портретная живопись накануне своего падения породила уникальный расцвет гуммиарабиковой печати. Речь шла о репродукционной технике, которая соединилась с фотографической репродукцией лишь позднее. Как на графических листах, выполненных этой печатью, на снимках такого фотографа, как Хилл, свет с усилием прорывается сквозь темноту: Орлик говорит о вызванной долгой выдержкой «обобщающей светокомпозиции», придающей «этим ранним фотоснимкам свойственное им величие». А среди современников открытия уже Деларош отметил ранее «недостижимое, великолепное, ничем не нарушающее спокойствие масс» общее впечатление. Это о технической основе, порождающей ауру. В особенности некоторые групповые снимки фиксируют мимолетное единение, на короткое время появляющееся на пластинке, перед тем как оно будет разрушено «оригинальным снимком». Именно эта атмосфера изящно и символично очерчивается ставшей уже старомодной овальной формой паспарту для фотографий. Поэтому о полном непонимании этих фотографических инкунабул говорит стремление подчеркнуть в них «художественное совершенство» или «вкус». Эти снимки возникали в помещениях, в которых каждый клиент встречался в лице фотографа прежде всего с техником нового поколения, а каждый фотограф в лице клиента – с представителем восходящего социального класса со свойственной ему аурой, которая проглядывала даже в складках сюртука и шейном платке. Ведь эта аура не была прямым продуктом примитивной камеры. Дело в том, что в этот ранний период объект и техника его воспроизведения так точно совпадали друг с другом, в то время как в последующий период декаданса они разошлись. Вскоре развитие оптики создало возможность преодоления тени и создания зеркальных изображений. Однако фотографы в период после 1880 года видели свою задачу в основном в том, чтобы симулировать ауру, исчезнувшую со снимков вместе с вытеснением тени светосильными объективами, точно так же, как аура исчезла из жизни с вырождением империалистической буржуазии, – симулировать всеми ухищрениями ретуши, в особенности же так называемой гуммиарабиковой печатью. Так стал модным, особенно в стиле модерн, сумеречный тон, перебиваемый искусственными отражениями; однако вопреки сумеречному освещению все яснее обозначалась поза, неподвижность которой выдает бессилие этого поколения перед лицом технического прогресса.
И все же решающим в фотографии оказывается отношение фотографа к своей технике. Камиль Рехт выразил это в изящном сравнении. «Скрипач, – говорит он, – должен сначала создать звук, мгновенно поймать ноту; пианист же нажимает на клавишу – нота звучит. И у художника, и у фотографа есть свои инструменты. Рисунок и колорит художника сродни извлечению звука скрипачом, у фотографа общее с пианистом состоит в том, что его действия в значительной степени – не сравнимой с условиями скрипача – предопределены техникой, налагающей свои ограничения. Ни один пианист-виртуоз, будь то сам Падеревский, не достигнет той славы, не добьется того почти сказочного очарования публики, каких достигал и добивался Паганини». Однако у фотографии, если уж продолжать это сравнение, есть свой Бузони, это Атже>7. Оба были виртуозами, в то же время и предтечами. Их объединяет беспримерная способность растворяться в своем ремесле, соединенная с величайшей точностью. Даже в их чертах есть нечто родственное. Атже был актером, которому опротивело его ремесло, который снял грим, а затем принялся делать то же самое с действительностью, показывая ее неприкрашенное лицо. Он жил в Париже бедным и безвестным, свои фотографии сбывал за бесценок любителям, которые едва ли были менее эксцентричными, чем он сам, а не так давно он распрощался с жизнью, оставив после себя гигантский опус в более чем четыре тысячи снимков. Береник Эббот из Нью-Йорка собрала эти карточки, избранные работы только что вышли в необычайно красивой книге[3], подготовленной Камилем Рехтом. Современная ему пресса «ничего не знала об этом человеке, который ходил со своими снимками по художественным мастерским, отдавая их почти даром, за несколько монет, часто по цене тех открыток, которые в начале века изображали такие красивенькие сцены ночного города с нарисованной луной. Он достиг полюса высочайшего мастерства; но из упрямой скромности великого мастера, который всегда держится в тени, он не захотел установить там свой флаг. Так что кое-кто может считать себя открывателем полюса, на котором Атже уже побывал». В самом деле: парижские фото Атже – предвосхищение сюрреалистической фотографии, авангард одной-единственной действительно мощной колонны, которую смог двинуть вперед сюрреализм. Он первым продезинфицировал удушающую атмосферу, которую распространил вокруг себя фотопортрет эпохи упадка. Он очищал эту атмосферу, он очистил ее: он начал освобождение объекта от ауры, которая составляла несомненное достоинство наиболее ранней фотографической школы. Когда журналы авангардистов «Bifur» или «Variété» публикуют с подписями «Вестминстер», «Лилль», «Антверпен» или «Вроцлав» лишь снимки деталей: то кусок балюстрады, то голую верхушку дерева, сквозь ветви которой просвечивает уличный фонарь, то брандмауэр или крюк с висящим на нем спасательным кругом, на котором написано название города, – то это не более чем литературное обыгрывание мотивов, открытых Атже. Его интересовало забытое и заброшенное, и потому эти снимки также обращаются против экзотического, помпезного, романтического звучания названий городов; они высасывают ауру из действительности, как воду из тонущего корабля.

Вальтер Беньямин начал писать «Улицу с односторонним движением» в 1924 году как «книжечку для друзей» (plaquette). Она вышла в свет в 1928-м в издательстве «Rowohlt» параллельно с важнейшим из законченных трудов Беньямина – «Происхождением немецкой барочной драмы», и посвящена Асе Лацис (1891–1979) – латвийскому режиссеру и актрисе, с которой Беньямин познакомился на Капри в 1924 году. Назначение беньяминовских образов – заставить заговорить вещи, разъяснить сны, увидеть/показать то, в чем автору/читателю прежде было отказано.

Предисловие, составление, перевод и примечания С. А. РомашкоРедактор Ю. А. Здоровов Художник Е. А. Михельсон© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1972- 1992© Составление, перевод на русский язык, художественное оформление и примечания издательство «МЕДИУМ», 1996 г.

Вальтер Беньямин – воплощение образцового интеллектуала XX века; философ, не имеющий возможности найти своего места в стремительно меняющемся культурном ландшафте своей страны и всей Европы, гонимый и преследуемый, углубляющийся в недра гуманитарного знания – классического и актуального, – импульсивный и мятежный, но неизменно находящийся в первом ряду ведущих мыслителей своего времени. Каждая работа Беньямина – емкое, но глубочайшее событие для философии и культуры, а также повод для нового переосмысления классических представлений о различных феноменах современности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В этой небольшой книге собрано практически все, что Вальтер Беньямин написал о Кафке. У людей, знавших Беньямина, не возникало сомнений, что Кафка – это «его» автор (подобно Прусту или Бодлеру). Занятия Кафкой проходят через всю творческую деятельность мыслителя, и это притяжение вряд ли можно считать случайным. В литературе уже отмечалось, что Беньямин – по большей части скорее подсознательно – видел в Кафке родственную душу, нащупывая в его произведениях мотивы, близкие ему самому, и прикладывая к творчеству писателя определения, которые в той или иной степени могут быть использованы и при характеристике самого исследователя.

«Эта проза входит в число произведений Беньямина о начальном периоде эпохи модерна, над историей которого он трудился последние пятнадцать лет своей жизни, и представляет собой попытку писателя противопоставить нечто личное массивам материалов, уже собранных им для очерка о парижских уличных пассажах. Исторические архетипы, которые Беньямин в этом очерке намеревался вывести из социально-прагматического и философского генезиса, неожиданно ярко выступили в "берлинской" книжке, проникнутой непосредственностью воспоминаний и скорбью о том невозвратимом, утраченном навсегда, что стало для автора аллегорией заката его собственной жизни» (Теодор Адорно).

Целый ряд понятий и образов выдающегося немецкого критика XX века В. Беньямина (1892–1940), размышляющего о литературе и истории, политике и эстетике, капитализме и фашизме, проституции и меланхолии, парижских денди и тряпичниках, социалистах и фланерах, восходят к поэтическому и критическому наследию величайшего французского поэта XIX столетия Ш. Бодлера (1821–1867), к тому «критическому героизму» поэта, который приписывал ему критик и который во многих отношениях отличал его собственную критическую позицию.

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

«Почему я собираюсь записать сейчас свои воспоминания о покойном Леониде Николаевиче Андрееве? Есть ли у меня такие воспоминания, которые стоило бы сообщать?Работали ли мы вместе с ним над чем-нибудь? – Никогда. Часто мы встречались? – Нет, очень редко. Были у нас значительные разговоры? – Был один, но этот разговор очень мало касался обоих нас и имел окончание трагикомическое, а пожалуй, и просто водевильное, так что о нем не хочется вспоминать…».

Деятельность «общественников» широко освещается прессой, но о многих фактах, скрытых от глаз широких кругов или оставшихся в тени, рассказывается впервые. Например, за что Леонид Рошаль объявил войну Минздраву или как игорная мафия угрожала Карену Шахназарову и Александру Калягину? Зачем Николай Сванидзе, рискуя жизнью, вел переговоры с разъяренными омоновцами и как российские наблюдатели повлияли на выборы Президента Украины?Новое развитие в книге получили такие громкие дела, как конфликт в Южном Бутове, трагедия рядового Андрея Сычева, движение в защиту алтайского водителя Олега Щербинского и другие.

Курская магнитная аномалия — величайший железорудный бассейн планеты. Заинтересованное внимание читателей привлекают и по-своему драматическая история КМА, и бурный размах строительства гигантского промышленного комплекса в сердце Российской Федерации.Писатель Георгий Кублицкий рассказывает о многих сторонах жизни и быта горняцких городов, о гигантских карьерах, где работают машины, рожденные научно-технической революцией, о делах и героях рудного бассейна.
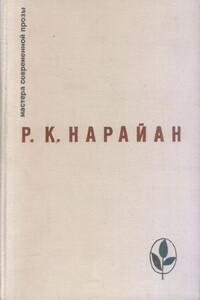
Свободные раздумья на избранную тему, сатирические гротески, лирические зарисовки — эссе Нарайана широко разнообразят каноны жанра. Почти во всех эссе проявляется характерная черта сатирического дарования писателя — остро подмечая несообразности и пороки нашего времени, он умеет легким смещением акцентов и утрировкой доводить их до полного абсурда.