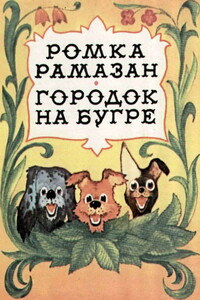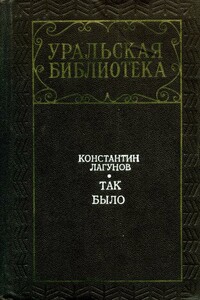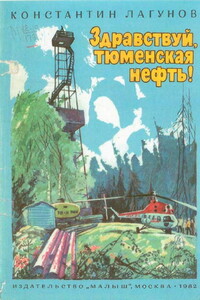Скользнули вбок глаза Вениамина.
— Чудачка… Такое пережила, а из-за пустяков на стенку лезешь. Ну, допустим, поверил — и что? По мне ты хоть сожги Рим, все равно люблю. Люблю — и к чертям всю политику! Вокруг тарарам, содом и гоморра, а на нашем островке — любовь… — Потянулся к ней.
— Погоди, — резко откачнулась Катерина, выставив перед собой руки. — Не трогай. Выходит, ты с ними?
— Что значит «с ними»? С кем? — Он мигом преобразился, стал серьезен и даже строг. — Совсем помешалась. Наверно, скоро и с бабы Дуни подписку возьмешь на верность большевикам… Я люблю тебя, понятно? Ради любви помог тебе вылезти из петли, сухой из воды выбраться. Забыла? Если б не та статейка в газете и не заступничество одного товарища в губкоме, ты давно бы жила под клеточным небом, а может, и вовсе не жила. Я эту сволочь кулацкую знаю. Спасая свою шкуру, они утопили бы тебя. Пойми: ты — малая песчинка в адском водовороте. Слизнули бы тебя без следа. И меня могли за заступничество прихватить, и Флегонта припутать. Но я даже не подумал об этом. И тебя тогда не допрашивал. Так ведь? Люблю — значит, верю. И ты верь. Остальное че-пу-ха. Выкрутимся. Я заткну глотку и Маркелу, и этой… Пусть не суют свои сучьи рыла куда не следует.
— Ты все-таки веришь им.
— Катя, Катя, — осуждающе покачал головой. — Милая ты моя. Ну чего ты от меня хочешь?
— Ни-че-го, — тихо по слогам выговорила она. — Просто я думала… я думала…
— Ну-ну, — поторопил он.
— Все перепуталось… Голова гудит, муторно на душе. Я пойду. Проводи меня до ворот.
— Не бойся. Маркел давно уехал. Я ему так наддал — на коленях стоял, каялся. И этой вислозадой пани всыпал. Разве я позволю кому-нибудь обидеть тебя? Глотку перерву!.. А у тебя ни к черту нервишки. Учись держать чувства в поводу. Главное, чтоб Чижиков ничего не угадал. А то подберет нужный ключик, сунет нос в щелочку, и пиши — пропало. Они мастаки чужие души отмыкать. Спе-ци-алисты! Тут надо всегда на взводе… Маркел, конечно, больше об этом нигде не пикнет, но тряхни его в чека — расколется: своя шкура дороже. И на очной ставке все повторит да еще краше, еще подробней разрисует. Тогда капкан щелк — и уж ни я, ни сам господь бог не спасут тебя от ревтрибунала, а оттуда одна дорога— в мир иной. Чижикова бойся, а не Маркела. Сама себя не выдай…
Мягкий, баюкающий голос все плотней опутывал Катерину. Она слушала, закрыв ладонями лицо, и все, что только что казалось почти ясным, очевидным, начинало двоиться, окутываться туманом. И уже хотелось верить другому: он заступился, Маркелу и пани Эмилии досталось. Значит, вправду любит, жалеет ее, бережет… Вот и от Чижикова остерегает… Но тут вынырнуло в памяти чижиковское лицо — бесхитростное, открытое, усталое. И разом отлетели добрые мысли о Вениамине, вспомнилась рождественская ночь, бабкины слова. Он все знал. Он — с ними. Боится, чтоб к Чижикову не склонилась, хочет помешать, потому и Маркел вынырнул. Ох, дуреха… Да ведь любит же!..
Еще несколько минут назад она могла бы ударить, оттолкнуть, оскорбить Вениамина, но когда он жарко приник к ее смятенным, сторонящимся губам, властно обнял и прижал ее слабо сопротивляющееся и оттого еще более желанное тело, Катерина, не желая того и проклиная себя за то, обвила руками его шею и со стоном сладкой боли отдалась…
Потом, остыв, она снова засомневалась и снова все вспомнила и мигом охладела, но что-то опять удержало ее подле Вениамина. Надо было самой, без помех неторопко разобраться в хаосе чувств и мыслей, еще раз все сопоставить и сверить. Но сейчас — не могла. Она любила, и ненавидела, и боялась его, и тянулась к нему…
— Эх, Катя. Голубка ты моя, премьерша сибирская. Скоро в пламени, в боли и муках родится такое… Ты будешь счастлива. Я хочу и сделаю так…
Отнял ее ладони от лица и стал жадно целовать и снова разом выпил всю ее решимость и волю, снова стал близким, желанным. Отлетели сомнения и страх. «Главное— любит…»
За окном давно плескалась ночь, а они все никак не намилуются, не оторвутся друг от друга. Временами Вениамин вроде трезвел от любовного хмеля, отдалялся от Катерины, и та начинала осмысленно и трезво воспринимать происходящее, но тут Вениамин, будто почуяв неладное, опять льнул к ней.
Потом он курил, а Катя сладко полудремала на его плече. Еле расслышала, как он спросил:
— Хочу завтра Чижикова повидать. Будет у себя?
— Днем должен быть, вечером в Челноково собирается.
— Откуда знаешь?
— Спрашивал, как Веселовским зимником проехать. Другие-то перемело…
— На ночь-то глядя, да тайгой?
— Он завсегда по ночам. Днем, говорит, работать надо.
— Замордует себя, — посочувствовал Вениамин. — На полный износ работает. И не боится в такое время по ночам?
— Смелый.
— Непуганый… Это хорошо. — Поднес циферблат к горящей папиросе, затянулся, — Без четверти двенадцать. Пойдем провожу. Хоть ты и отчаянная и чекистка, а все-таки… Чижиков и то, наверное, без провожатых-то не ездит?
— Когда как. Иногда только с кучером.
— Ночью да по тайге… Я б, пожалуй, не решился… — Вениамин зябко передернул плечами.
— Трус, — погладила ладошкой по колючей щеке. — Как же ты воевал?
— Когда воевал, у меня не было тебя, нечего терять. А теперь… не хочу…