Красная каторга: записки соловчанина - [106]
В двенадцать часов привозят «премиальный завтрак»: бурду без хлеба. Мы жадно съедаем эти несколько ложек горячей жидкости и минут двадцать отдыхаем. Я стараюсь отыскать глазами Федосеича. Куда сунули старика? Обращаюсь к бригадиру:
— Где мой компаньон, старик?
— Старик то? Да вон он ходит вдвоем с попом Сиротиным: ломанные тачки собирают в кучу.
Я узнал издали Федосеича, медленно движущагося на своих слабых, старческих ногах. Мне жалко его до слез.
К вечеру я, что называется, был без рук, без ног. Наша бригада, в испачканной одежде и обуви, остановилась перед воротами второго лагпупнкта. Мы с Федосеичем попали на Маткожненский узел седьмого отделения Белбалтлага, в самые гиблые места на тяжелые физические работы — на неопределенное время. У ворот лагпункта, встретившись после работ, мы делимся впечатлениями. Старик храбрится:
— Пустяки, работа не трудная. Это ничего.
Я смотрю на его измученное лицо, вымазанные в грязи руки и сапоги, и тоже соглашаюсь:
— Это ничего. Заживет.
Вахтер впускает нас внутрь ограды. Мы идем вдоль забора, к которому выходят улицы этого «полотнянного города». Делаются палатки очень просто. Из досок и тонкого леса выводят остов (каркас) палатки, размером шесть метров на двадцать. Внутри устраиваются два ряда двухэтажных нар. Каркас обтягивается брезентом, в палатку ставят две железные печки — и помещение для ста двадцати жильцов готово. Кроме палаток на лагпункте были и бараки, но главная масса обитателей лагпункта проживала круглый год в палатках.
На втором лагпункте было около четырех тысяч душ, а в седьмом отделении около двадцати тысяч. Впоследствии, к концу строительства — в «ураганные дни» — цифра эта удвоилась.
Усталые и изнуренные люди добрались до своих мест на нарах. Бригадир принес и роздал нам обеденные карточки трех цветов: для недоработавших урок, для выполнивших его и для ударников, то есть выполнивших не менее ста десяти процентов урока.
Я попросил соседа захватить мой с Федосеичем обед, а сам лежал в грустном размышлении: на сколько времени хватит у меня сил для такой работы. Выводы были совсем не утешительны.
Мой сосед, кулак Семен Кузьмин, посмотрел на меня участливо.
— Уходился? Тута работа тяжелая. Ну, только зря вы так работаете. Надо ко всему приспособляться.
Он дал мне несколько практических советов, как можно «заряжать туфту» даже и там, где смотрят за рабочими в оба… Со временем я действительно выучился заряжать ее по всем правилам каторжного искусства.
Вечером Федосеича перевели в команду слабосильных, и я с великим сожалением расстался с моим другом.
Итак — я вновь на дне, в самой гуще рабочих, как было пять лет тому назад, на Соловках. Но какая разительная перемена в толпе и в настроениях! Какая вопиющая нищета, какие неукротимые приступы злобы при пустяковых столкновениях рабочих друг с другом. Я не мог без глубокого отвращения наблюдать картину раздачи пищи. У кухонных раздаточных окон, гремя котелками и переругиваясь, выстраивались длинные очереди истомленных, голодных людей. Зачастую более нетерпеливые шпанята пытались протиснуться поскорее к окошку, но встречали яростное сопротивление ближайших. Завязывалась злая перебранка. Большинство, добравшись до окна, ставили котелок внутрь, а сами танцевали у окна, стараясь заглянуть внутрь, и тянули нудными, просящими голосами:
— Дай побольше, товарищ. Что-ж ты воду одну льешь?
Повар обычно молчит, либо отвечает:
— Воду?.. А соль не считаешь?
Получив котелок бурды и тухлую рыбу, счастливец идет быстрым шагом к себе на нары, глотая голодную слюну и на ходу нюхая с наслаждением вонючую, отвратительную рыбу. Из неё ничего не пропадает, даже внутренности будут съедены. Картофельная шелуха, выброшенная на помойку, и та мгновенно исчезает в протянутых за нею руках.
«Кулаки» мрачны и злобны. Они дают тон толпе. Крестьянин, никогда не голодавший, обиравший город в голодные годы, здесь лишен всего и, главное, хлеба. Они вырваны из родных мест с корнем, всей семьей, им уже никто не пришлет ни посылку, ни малую толику денег… В толпе немало попутчиков, помогавших большевикам углублять революцию. Много узбеков. Большинство их попало сюда в связи с басмаческим движением в Узбекистане и гибли они здесь, на севере, массами.
Голод кладет на все свою суровую печать. Здесь все молчит, говорит только голод. Вся толпа отмечена этой проклятой печатью и в любой кучке, собравшейся у кипятильников или кухонных окон, слышится не разговор, а голодное рычание.
Среди этой толпы выделяются люди уже переставшие бороться за жизнь и постепенно умирающие. Это так называемые «пятисотки», люди, получающие пятьсот граммов хлеба в сутки и продолжающие работать. В отчаянии бродят они по пустым помойным ямам, подбирают всякую падаль, пробуют есть самые несъедобные вещи, глядя на встречных гаснущими, равнодушными глазами. Большая часть из них получила инвалидность здесь, на канале, и в муках, дни за днями — идут к смерти от голодного истощения. Если такой свалится — его и в лазарет не берут, а отправляют в «слабосильную команду» умирать среди таких же, как он обреченных. Если он будет в состоянии еще таскать ноги и что-нибудь делать — ему выдают пятьсот грамм хлеба в сутки, если же силы совсем оставят слабосильника — паек ему снижается до двухсот грамм. И эта юдоль ждет каждого, истощившего свои силы на работе.

Даже в аду ГУЛАГа можно выжить. И даже оттуда можно бежать. Но никто не спасёт, если ад внутри тебя. Опубликовано: журнал «Полдень, XXI век», октябрь 2008.

…я счел своим долгом рассказать, каково в действительности положение «спеца», каковы те камни преткновения, кои делают плодотворную работу «спеца» при «советских условиях» фактически невозможною, кои убивают энергию и порыв к работе даже у самых лояльных специалистов, готовых служить России во что бы то ни стало, готовых искренно примириться с существующим строем, готовых закрывать глаза на ту атмосферу невежества и тупоумия, угроз и издевательства, подозрительности и слежки, самодурства и халатности, которая их окружает и с которою им приходится ежедневно и безнадежно бороться.Живой отклик, который моя книга нашла в германской, английской и в зарубежной русской прессе, побуждает меня издать эту книгу и на русском языке, хотя для русского читателя, вероятно, многое в ней и окажется известным.Я в этой книге не намерен ни преподносить научного труда, ни делать какие-либо разоблачения или сообщать сенсационные сведения.

Рассказы Виктора Робсмана — выполнение миссии, ответственной и суровой: не рассказывать, а показать всю жестокость, бездушность и бесчеловечность советской жизни. Пишет он не для развлечения читателя. Он выполняет высокий завет — передать, что глаза видели, а видели они много.
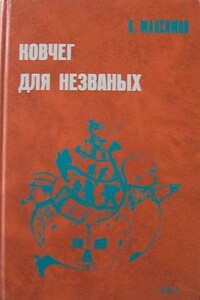
«Ковчег для незваных» (1976), это роман повествующий об освоении Советами Курильских островов после Второй мировой войны, роман, написанный автором уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила его творческих импульсов. Образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе. Обложка работы художника М. Шемякина. Максимов, Владимир Емельянович (наст. фамилия, имя и отчество Самсонов, Лев Алексеевич) (1930–1995), русский писатель, публицист. Основатель и главный редактор журнала «Континент».
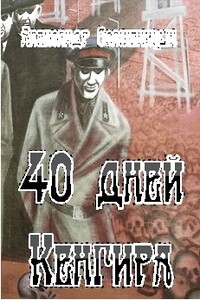
Кенгирское восстание — восстание заключенных Степного лагеря (Степлага) в лагпункте Кенгир под Джезказганом (Казахстан) 16 мая — 26 июня 1954 г. Через год после норильского восстания, весной 1954 года, в 3-м лаготделении Степлага (пос.Джезказган Карагандинской обл.) на 40 дней более 5 тысяч политических заключенных взяли власть в лагере в свои руки. На 40-й день восстание было подавлено применением военной силы, включая танки, при этом, по свидетельствам участников событий, погибли сотни человек.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.