Козел отпущения - [43]
Аристотелевское понятие «hamartia» [ошибка, оплошность (др. греч.)] концептуализирует поэтическую минимизацию вины. Оно предполагает скорее простую оплошность, вину по недосмотру, нежели полноценное злодеяние древних мифов. Перевод этого греческого термина французским «faille tragique», английским «tragic flaw» создает представление о ничтожной ошибке, единственной трещинке в однородном массиве непроницаемой добродетели. Пагубный аспект священного сохранен, но сведен к строжайшему минимуму, логически необходимому для оправдания неизменно катастрофических последствий. Здесь пройдена большая дистанция от мифов, где пагубное и благое находятся в равновесии. Большая часть так называемых «примитивных» мифов дошла до нас в этом первичном состоянии равновесия, и я полагаю, что прежняя этнография справедливо определяла их именно как примитивные; она догадывалась, что они ближе к учредившему их эффекту козла отпущения — то есть к эффекту, который производит успешная проекция всего пагубного в ее предельно насильственной форме.
Для того чтобы желание извинить бога не приводило сразу же к полному устранению его вины (а именно этого на позднейшем этапе открыто требует Платон), какая-то сила должна продолжительно работать на поддержание предельного уважения к традиционному тексту, и этой силой может быть лишь длительный эффект козла отпущения, логика, присущая примитивной религии на ее ритуальной и жертвенной стадии. Бог воплощает чуму, как я уже сказал выше; он располагается не по ту, а по сю сторону добра и зла. Воплощенное в нем различие еще не конкретизировалось в моральной дистинкции; трансцендентность жертвы еще не раскололась на силу благую и божественную с одной стороны, и дурную и демоническую — с другой.
Лишь начиная с той стадии, когда это разделение произведено (а оно должно произойти под воздействием того давления, которое со всех сторон оказывается на первоначальный мифологический корпус), это равновесие в мифах нарушается то в пользу пагубного, то в пользу благого, то в обоих направлениях сразу, и амбивалентное примитивное божество теперь может расколоться на идеально хорошего героя и идеально дурное чудовище, терзающее общину: Эдип и сфинкс, святой Георгий и дракон, водяная змея из мифа араваков и ее убийца-освободитель. Чудовище наследует все то, что было отвратительного в исходном комплексе: кризис, преступления, критерии виктимного отбора, то есть три первых гонительских стереотипа. Герой же воплощает исключительно четвертый стереотип — убийство, жертвенное решение, избавительный характер которого теперь тем более очевиден, что гнусность чудовища полностью оправдывает примененное к нему насилие.
Разделение такого типа — вещь очевидно поздняя, поскольку оно приводит к сказкам и легендам, то есть к мифологическим формам настолько вырожденным, что они уже не служат предметом подлинно религиозной веры. Поэтому вернемся к более раннему этапу.
Устранить преступление бога полностью было бы невозможно. Такая цензура, примененная без мер предосторожности, решив одну проблему, сразу бы создала другие. Настоящие носители мифологии, как всегда более проницательные, чем наши этнографы, прекрасно понимают, что насилие, обращенное против их бога, оправдано только совершенным им до того проступком. Взять и попросту вычеркнуть это оправдание значило бы обелить божество, то есть самую священную фигуру, но одновременно сделать преступной общину, которая его покарала с полным, как она полагала, на то правом. Но ведь эта линчующая община почти так же священна, как и сама учредительная жертва, поскольку именно община линчевателей породила нынешнюю общину почитателей божества. Таким образом желание сделать мифологию моральной упирается в дилемму. Мы легко выводим эту дилемму из первичных мифологических тем, но мы можем в текстах очевидно намного более поздних вычитать последствия решения этой дилеммы из оттенков (иногда очень тонких) божественной виновности. Наличие этих оттенков до сих пор оставалось непонятным, но теперь они разъясняются как более или менее остроумные решения, найденные в ходе времени и мифологического развития, чтобы «снять вину» со всех персонажей священной драмы одновременно.
Самое простое решение состоит в том, чтобы сохранить преступления жертвы в их первоначальном виде, но изобразить их непреднамеренными. Жертва действительно совершила то, в чем ее обвиняют, но не совершала этого умышленно. Эдип действительно убил своего отца и спал со своей матерью, но сам видел в своих поступках нечто иное. Короче говоря, никто уже не несет ответственности, и все моральные требования оказываются удовлетворены при почти полном сохранении традиционного текста. Мифы, дойдя до сколько-нибудь критической стадии своей эволюции, то есть до стадии их интерпретации, часто предъявляют нам невинных виновников вроде Эдипа вместе с невинно виновными общинами.
Почти то же самое мы встречаем и в проанализированном выше случае скандинавского бога Хёда. Хотя технически и ответственный за убийство, убийца превосходного Бальдра еще более невиновен, чем Эдип (если такое возможно), так как у него (мы это помним) есть несколько превосходных оснований считать свой смертоносный поступок всего лишь безобидным подражанием, забавной игрой без неприятных последствий для брата — в которого, однако, он метил. Хёд никак не мог догадаться, к чему это приведет.

Рене Жирар родился в 1923 году во Франции, с 1947 года живет и работает в США. Он начинал как литературовед, но известность получил в 70-е годы как философ и антрополог. Его антропологическая концепция была впервые развернуто изложена в книге «Насилие и священное» (1972). В гуманитарном знании последних тридцати лет эта книга занимает уникальное место по смелости и размаху обобщений. Объясняя происхождение религии и человеческой культуры, Жирар сопоставляет греческие трагедии, Ветхий завет, африканские обряды, мифы первобытных народов, теории Фрейда и Леви-Строса — и находит единый для всех человеческих обществ ответ.
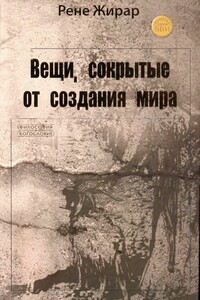
Эта, возможно, лучшая книга выдающегося французского философа стала мощным вызовом привычным взглядам на литературу, антропологию, религию и психоанализ. В диалоге с двумя психиатрами (Жан-Мишелем Угурляном и Ги Лефором) Жирар с полемической смелостью и поражающей эрудицией затрагивает энциклопедический круг вопросов, включающий весь спектр современной антропологии, психоанализа и развития культуры.Серия «Философия и богословие». В этой серии издаются книги, написанные ведущими современными авторами, в которых проблемы взаимодействия философии и религии рассматриваются в исторической и теоретической перспективе.

МИФ ЛИ ЕВАНГЕЛИЕ? Рене Жирар Перевод с английского: Андрея Фоменко Источник: http://art1.ru/shkola/mif-li-evangelie-1/ Статья опубликована в журнале «First Things», April 1996 .

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.