Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла - [35]
Пафос романа «Жюстин» — память, и два лирических гимна памяти, один из которых открывает роман, а другой — замыкает его, образуют некий обрамляющий текст, стихотворение в прозе, по-своему собирающее в единое целое все темы и «настроения» основного текста. Тема первого из них — Александрия, второго — время. «Где-то далеко, там, где подрагивает розово-лиловая линия горизонта, лежит Африка, лежит Александрия и держит слабеющую цепкую лапку на пульсе памяти: памяти о друзьях, о днях давно минувших. Медленная ирреальность времени затягивает воспоминания илом, размывает очертания — и я уже начинаю сомневаться, в самом ли деле исписанные мной листы рассказывают о поступках и мыслях реальных людей; не есть ли это просто история нескольких неодушевленных предметов, катализаторов и дирижеров человеческих драм — черная повязка на глазу, ключик от часов и пара бесхозных обручальных колец…» Тема времени здесь непосредственно связана с акцентировкой внимания на присущем прозе Даррелла самодвижении явлений. В финале следующего романа тетралогии сам Зигмунд Бальтазар говорит об умножении, переплетении реальностей как единственном способе «сохранить верность Времени, ибо в каждый момент Времени возможности бесконечны во множестве своем. Жизнь есть череда актов выбора». Как в том, так и в другом случае совершается бергсоновский процесс сведения времени к продолженному настоящему, к длительности. Для предмета время имеет значение лишь как формальное выражение происходящих с ним метаморфоз, в процессе же изменения он пребывает в постоянном настоящем, тогда как прошлое и будущее — условности, информация о которых хранится в нем в каждый отдельный момент существования. Акт выбора также принимает прошлое и будущее лишь как условность, ибо для него имеет значение только наличная ситуация, т. е. жизнь в постоянном выборе, — это жизнь в постоянном настоящем. «Маунтолив», с его монументальной сценой поминок по Нарузу в финале, возвращает нас от линейности социально-эпического времени еще к одной форме постоянного настоящего — мифу, ибо циклическое время мифа также ничего не знает ни о прошлом, ни о будущем.
В «Клеа» тема времени властно звучит с самого начала романа, явно претендуя на роль лейтмотива. Но, несмотря на то что именно здесь впервые и встречается термин «постоянное настоящее», речь идет совсем о другом — о полном выходе из-под власти времени. «Если я и заговорил о времени, — пишет Дарли, — то потому лишь, что писатель, каковым я понемногу становился, начал учиться жить в тех пустотах, коими пренебрегает время, просто не обращая на них внимания, — начал учиться жить, так сказать, между ударами часов. Разум человеческий, сей коллективный анекдот, обитает в постоянном настоящем; когда прошлое мертво, а вместо будущего одни лишь желания и страхи — чего в случайном этом времени нельзя понять и измерить, чего нельзя просто-напросто опустить? Для большинства из нас Настоящее — нечто вроде роскошного, изысканного блюда, наколдованного феями: оно исчезает прямо из-под носа прежде, чем успеешь попробовать хоть кусочек». Время в «Клеа» становится подобным наваждением, приобретая смысл уловки мира кажимостей, имеющей целью не дать человеку пробиться к сути вещей. Человек погряз во времени, этой истинной «хвори человеческой души», как называет его Дарли, покорно следуя его движению, безвольно уносимый потоком. Даже Бальтазар, «прозрев» на время после увесистой — от Города на память — оплеухи, едва не скинувшей его в «другое царство мертвых» надолго и всерьез, произносит о времени тираду язвительную, и весьма.
Согласно «естественнонаучной» схеме из предисловия к «Бальтазару», стихия «Клеа» — именно время, и с точки зрения событийного плана роман вполне подходит для подобной роли. Между общим временем первых трех книг (несмотря на разницу между субъективным временем «Жюстин» и «Бальтазара» и линейным, объективным временем «Маунтолива») и временем «Клеа» лежит промежуток в несколько лет, отмеченный, кроме того, «пороговым» событием — началом Второй мировой войны. Дарли, вернувшийся в военную Александрию, естественно, прежде всего обращает внимание читателя на изменения, происшедшие с персонажами, с самим Городом. Ночные бомбардировки, солдаты на улицах, знакомые люди в военной форме, Нессим и Жюстин, потерпевшие поражение и запертые под домашним арестом в Карм Абу Гирге (Нессим потерял к тому же глаз и палец), внезапно разбогатевший Мнемджян — все это сразу привлекает внимание читателя, уже привыкшего следить за символически окрашенными изменениями нюансов у Даррелла. Каждая из глав первой половины романа фактически является монологом, моноспектаклем одного из персонажей, закрывающим лакуну в его личной линии развития сюжетов и ситуаций. Но постепенно становится ясно, что в древней Александрии все трансформации происходят лишь на поверхности и что все персонажи: от Города до черной повязки все равно на чьем глазу — отступают от своей неизменной архетипической сущности только для того, чтобы, мимикрировав под преобладающие в новой ситуации, в новом освещении тона, занять привычное место в чуть сместившейся системе взаимосвязей. Недаром в конце романа в одной фразе еще раз сходятся аллюзии на стихотворения «Город» и «Покидает Дионис Антония» Кавафиса, подчеркивая, как и в «Жюстин», вневременной характер власти Города над человеком. Ничто не исчезает в Александрии. Вместо Мелиссы Дарли явлена Клеа. Жюстин и Нессим, оправившись к концу романа от перенесенного шока, вновь принимаются за прежнее. Возвращается через письмо к Бальтазару «покойный» Да Капо, Помбаль, потерявший, казалось, смысл жизни со смертью Фоски, достаточно быстро регенерирует к своей старой роли «сексуального пульса» Города — правда, издалека, из Парижа. Почившие проводники «духа места» продолжают оставаться самими собой, слегка трансформировав (с поправкой на потусторонность) формы своей деятельности. Так, Скоби возрождается в виде местного святого, чей культ носит выраженный карнавальный характер. Наруз, давно оплаканный и похороненный, едва и впрямь не утягивает за собой Клеа. Персуорден, помимо своих обычных, напоминающих о чертиках и табакерках явлений, прикрытых из вежливости цитатой по памяти либо воспоминанием, отвоевывает целых тридцать страниц в самом центре романа для «Разговоров» — дневников, демонстрирующих едва скрываемое авторское кредо в форме эссе в романе.
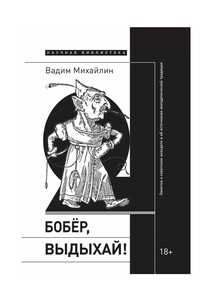
«Приходит в исполком блоха-беженка…» «Откинулся волк с зоны и решил завязать…» «Идут звери на субботник, смотрят, заяц под деревом лежит…» Почему героями советского анекдота так часто становились животные? Как зооморфные культурные коды взаимодействовали с коллективной и индивидуальной памятью, описывали социальное поведение и влияли на него? В своей книге филолог и антрополог Вадим Михайлин показывает, как советский зооморфный анекдот противостоял официальному дискурсу и его манипулятивным задачам.
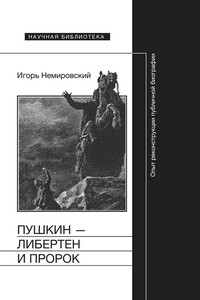
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В 1831 году состоялась первая публикация статьи Н. В. Гоголя «Несколько мыслей о преподавании детям географии». Поднятая в ней тема много значила для автора «Мертвых душ» – известно, что он задумывал написать целую книгу о географии России. Подробные географические описания, выдержанные в духе научных трудов первой половины XIX века, встречаются и в художественных произведениях Гоголя. Именно на годы жизни писателя пришлось зарождение географии как науки, причем она подпитывалась идеями немецкого романтизма, а ее методология строилась по образцам художественного пейзажа.

Неповторимая фигура Андрея Платонова уже давно стала предметом интереса множества исследователей и критиков. Его творческая активность как писателя и публициста, электротехника и мелиоратора хорошо описана и, казалось бы, оставляет все меньше пространства для неожиданных поворотов, позволяющих задать новые вопросы хорошо знакомому материалу. В книге К. Каминского такой поворот найден. Его новизна – в попытке вписать интеллектуальную историю, связанную с советским проектом электрификации и его утопическими горизонтами, в динамический процесс поэтического формообразования.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.