Комментарии переводчика к «Александрийскому квартету» Л. Даррелла - [26]
А теперь — подкладка романтической драмы, откомментированной Дарреллом куда как жестко. Да, сэр Дэвид получает акколаду, получает меч и доспехи из рук старого рыцаря — но вспомните как. В XX веке Учитель и Ученик, Магистр и Юный Рыцарь (которому, судя по тексту, слегка за сорок), сидя в Москве, то есть в самом стане Антихриста, и помирая там со скуки, торгуются за шпагу чести и латаные латы. О tempora, о mores! Фисгармония — вместо органа — свистит и кашляет, Христовы воины простужены, а шпагу туземный король прищемил лимузиновой дверцей — вот и почетный шрам.
Романтик — вечное дитя, этот образ любили в начале века прошлого. Что ж, сэр Дэвид до старости будет грезить тенью воина. Уход отца из касты воинов в Страну Востока останется не понят, но зато, отыграв еще одну положенную романтическую сцену, возвращение домой (заснеженное поле, заиндевелый сад, камин и старушка мама у огня, как на картинке: да она ведь и есть — картинка, в той же позе, что и десять лет назад), Маунтолив получит обязательный детский недуг, обязательную боль в ушах. Имеющий уши да слышит. А не умеющему слушать — зачем ему уши?
Сэр Дэвид едет в Египет, почти в Палестину, — и Дама тебе, и крестовый поход. Он летит туда на крыльях, в буквальном смысле слова. В кабине самолета немыслимо жарко, пот ручьями бежит под кольчугой, — как бы не пришлось блевать в шлем с плюмажем. Реальным рыцарям в реальных крестовых походах под знойным левантийским небом приходилось не слаще. В доспехах кондиционеров не было. Даже белый наряд крестоносца надевался поверх доспеха, чтобы воителю за веру не свариться в латах заживо. Но кто же помнит об этом, читая о подвигах Ричарда Львиное Сердце?
Сарацины и мавры встречают сэра Дэвида с музыкой, он — победитель, и сразу. И только постепенно, как вода сквозь подтаявший снег, сквозь обманку победы начинает проступать реальная горечь поражения. Дама так и заперта в волшебной башне, и колдун с раздвоенной губой ее стережет. История повторяется — с маврами идут переговоры, а восточный христианский рыцарь-собрат оказывается главным врагом. Об отношении крестоносцев к коптам в романе говорят, но можно вспомнить еще и о четвертом крестовом походе, закончившемся славным взятием христианской столицы христианским же воинством. Есть и некоторые коррективы. Ни рыцарь западный, ни рыцарь восточный не воюют за веру, они плетут интриги и заговоры, продают бойцам — презренным иудеям — оружие (Айвенго и жид поменялись местами) и перехватывают письма. А потому уподобляются чаще не крестоносцам во плоти, но изваяниям оных на гробницах. Они — кабалли, души, умершие уже, но по инерции продолжающие «делать дело».
Но главное поражение еще впереди. Витязю явится в конце концов Разоблаченная Изида, вот только лик ее окажется ужасен, и рыцарь, отвернувшись в отвращении и страхе, сбежит от Дамы, от Хранительницы Всех Ключей и Тайн, — прочь. Сцены более антиромантической измыслить трудно. Разжиревшая, старая, пахнущая виски и мятными лепешками, в побитом молью платье Беатриче — какой конфуз для романтической надмирности! Идеальный образ меняться не имеет права. Но есть у этой сцены еще и «мистическая» составляющая, выходящая как на символику рыцарского романа, так и на таротный смысловой ряд. Александрия, Изида, является рыцарю лично — разве не этого ищут рыцари от века? Но рыцарь, повторяя сюжет Парцифаля, молодого и глупого, но только на ином, сниженном безмерно уровне, явленного откровения не узнает, не понимает, не задает вопроса, не произносит пароль. Отправившись на поиски Грааля, чаши с кровью, с духом Господним, — что он ожидал найти? Замахнувшийся на Чашу должен уметь видеть, чтобы сквозь унизительную данность прозреть обещание пути. Сэр Дэвид слеп в латной маске долга — и долгов. А потому и получает по заслугам. Его последняя попытка «вернуть себе Город» — уже чистой воды игра Изиды с плохоньким, бездарным и ненужным потому учеником. Играет, конечно же, не Лейла. Лейла умерла давно, из бабочки вылупилась гусеница. Играет Город — сквозь тело бывшей Лейлы, как и сквозь прочие тела и души, — ведь мы к этому уже привыкли после первых двух романов.
Вернувшись в пустой свой замок, где сыростью веет от стен, Маунтолив надевает феску и темные очки и этаким Гарун-аль-Рашидом едет в Город, в арабскую, волшебную его часть. Но маска способна с некоторой долей вероятности обмануть человека, но не Город, с наибольшей свободой играющий судьбами своих обитателей именно на карнавальном маскараде. Еще по дороге к арабскому кварталу навстречу Маунтоливу попадается не кто иной, как «дух места» Бальтазар, но сэр Дэвид, пьяненький и уже увлеченный мальчишеской совершенно игрой, предупреждения не понимает. Не поймет он, уже в борделе, и смысла отпечатков детских ладошек на стенах, «пощечин, розданных невидимой рукою духа» (в «Клеа» Персуорден и Жюстин, попавшие в аналогичную ловушку, выберутся из нее — и с честью). Влюбленный паладин получит ту любовь, которую заслужил. Лилипуты, маленькие, темные, хтонические бесы, опутывают его, раздевают, снимают доспехи и маски — до самой жалкой сущности его. Смысл будет явлен ему на картинке. И то хлеб. Сорокалетний несовершеннолетний Дэвид Маунтолив всю оставшуюся жизнь обречен теперь рассматривать картинки в Книге Жизни, не сумев прочесть в ней даже первых букв. (Помните, он же с детства к этому склонен — пусть мать читает ему вслух!) Единственное, что остается ему, — его драгоценная личность, иллюзия из иллюзий в мире Даррелла. Довершают жестокую расправу автора над персонажем «каирские» сцены — письмо от сэра Луиса («Я сразу подумал о тебе, сам не знаю почему») и «друг», полученный в подарок, утешительный приз, своего рода coup de grâce
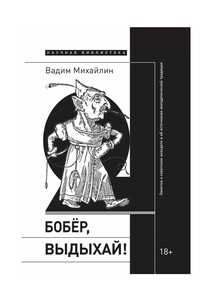
«Приходит в исполком блоха-беженка…» «Откинулся волк с зоны и решил завязать…» «Идут звери на субботник, смотрят, заяц под деревом лежит…» Почему героями советского анекдота так часто становились животные? Как зооморфные культурные коды взаимодействовали с коллективной и индивидуальной памятью, описывали социальное поведение и влияли на него? В своей книге филолог и антрополог Вадим Михайлин показывает, как советский зооморфный анекдот противостоял официальному дискурсу и его манипулятивным задачам.

Естественно, что и песни все спеты, сказки рассказаны. В этом мире ни в чем нет нужды. Любое желание исполняется словно по мановению волшебной палочки. Лепота, да и только!.. …И вот вы сидите за своим письменным столом, потягиваете чаек, сочиняете вдохновенную поэму, а потом — раз! — и накатывает страх. А вдруг это никому не нужно? Вдруг я покажу свое творчество людям, а меня осудят? Вдруг не поймут, не примут, отвергнут? Или вдруг завтра на землю упадет комета… И все «вдруг» в один миг потеряют смысл. Но… постойте! Сегодня же Земля еще вертится!
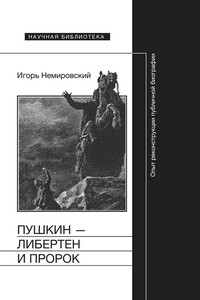
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.