Колыма ты моя, Колыма - [5]
Однажды я услышал стук женских каблучков и подтянулся из последних сил к сетке над дверью. Каково же было мое удивление, когда я увидел в коридоре Лиду Бекасову, которую вели на допрос. От неожиданности я крикнул: «Лида!», но она не повернулась. Когда через десять суток открыли карцер, я едва держался на ногах от слабости. Но повели меня, еле живого, не в камеру, а на допрос в следственный корпус в конце коридора. Майор Матиек встретил меня ехидной улыбкой: «Ну, теперь будешь признаваться? У нас есть подвалы и похуже, посадим туда — сгниешь заживо». Однако признаваться в том, чего не было, я считал гибелью. Допросы продолжались. Я требовал очной ставки с Бейлиным, но Матиек упорно не давал: «А нам, следствию, это не нужно». Все больше я убеждался, что Бейлин сотрудничает с органами.
После карцера меня перевели в другую камеру, где было шесть коек. Здесь было повеселее. Молодой солдат возмущался почему его обвиняют по статье 58–10 в антисоветской агитации. Он всего лишь пошел в туалет на военных занятиях части и захватил с собой газету с изображением вождя. Донос, арест, Лубянка. Другой — инженер, ездил в командировки за рубеж для ознакомления с технологией производства. Арест за «измену родине, шпионаж», как и у меня статья 58-1а. Пожилой христианин молился у окна, никто не мешал ему. На одной из коек сидел бледный мужчина — это был еврейский писатель Перец Маркиш. Еще до своего ареста я слышал о разгроме еврейского театра на Малой Бронной, об арестах еврейских писателей под лживым лозунгом «борьбы с космополитизмом и сионизмом», об арестах и разгроме Антифашистского еврейского комитета. Маркиш был неразговорчив. Видимо, как более опытный, он боялся «подсадных уток», но в этой камере, как казалось мне, их не было. Я говорил в открытую. Зашел разговор о литературе. Я сказал, что роман Коростылева «Иван Грозный» — лживый насквозь, ибо образ Ивана Грозного полностью опровергается романами графа Толстого, хотя бы его романом «Князь Серебряный». Маркиш тихо кивнул головой и слегка улыбнулся. Он рассказал, что здесь совсем недавно, что его перевели с Большой Лубянки, где он сидел раньше. По вечерам камера пустела — каждый вызывался к своему следователю — собирались, когда до «подъема» по тюремному режиму, оставалось два часа. Но что это был за сон, когда через два часа раздавалась команда: «подъем», и мы должны были садиться на койки и так сидеть целый день. Была лишь одна спокойная ночь — воскресная. И воскресный день. И тогда с улицы Малая Лубянка доносились до нас звуки органной музыки из костела, расположенного напротив.
Жаркое лето наступило внезапно. Свежий воздух почти не поступал в камеру. Стояла духота. Мы сидели раздетые до пояса. На допросах Матиек перешел к моему посещению гостиницы «Савой». Отрицать было бесполезно. Я объяснил свой визит тем, что хотел воспользоваться оказией и передать письмо родному дяде в Мексике. Тогда вопрос уперся в содержание самого письма. Я говорил, что письмо носило чисто родственный характер, но в душе опасался, не передала ли жена Ареналя это письмо в лапы МГБ. После одного-двух допросов я убедился, что письма в деле нет.
К концу лета Матиек оставил расспросы по первому обвинению в шпионаже и перешел к следующей статье — 58–10, инкриминирующую антисоветскую агитацию.
— Высказывал ты мнение, что половину Польши и всю Прибалтику мы захватили незаконно?
Я начинаю хитрить и отвечаю на вопрос вопросом.
— А как вы сами считаете?
Матиек багровеет, глаза стекленеют, он стучит кулаком по столу, начинает остервенело кричать:
— Сволочь, это я задаю здесь вопросы, а не ты. Я допрашиваю тебя, а не ты меня.
Затем он отходит немного, снова заглядывает в «оперативное дело», спрашивает:
— Высказывался ли ты, что работа нашего вождя, товарища Сталина, «Марксизм и национальный вопрос» лжива и является чепухой?
Это донос. Понимаю, что он исходит от кого-то из институтских, хочу припомнить, кому я говорил нечто подобное. Не могу. А Матиек тщательно записывает свои вопросы в протокол.
— Рассказывал ты явно антисоветский анекдот про еврея, вызванного в ГПУ?
И я опять вопросом на вопрос:
— А какие анекдоты вы считаете советскими и какие антисоветскими?
Я знаю, что все доносы лежат в этой толстой папке. Мне было уже безразлично, чья это «работа». К тому же статья 58-1а в измене перекрывала по тяжести статью 58–10. Но все равно я старался не подписывать протоколы. Каждый вечер, после ужина, открывалась кормушка в двери камеры, и надзиратель шепотом называл начальную букву фамилии: «на Б», чтобы в других камерах не слышали фамилии. Это означало идти на всю ночь в кабинет следователя.
Как-то днем, изнемогая от бессонных ночей, я свалился на койку. Открылась кормушка и надзиратель-коридорный приказал подняться. Я поднялся и снова свалился. Тогда неожиданно в камеру вошли два здоровенных лба-надзирателя, взяли меня с двух сторон под руки и поволокли вниз по лестнице. Я думал, что в карцер, в подвал, а они заперли меня в темный закуток под лестницей на первом этаже. Темно, сесть невозможно. Стены сырые. На цементном полу вода. Я в одной рубашке. Знобит. Начинаю стучать в дверь: «Что вы издеваетесь, сволочи! Фашисты, отоприте дверь!» Никакой реакции. Минут через двадцать надзиратель отпирает дверь: «Прохладился маленько, не будешь спать в неположенное время», — и ведет меня снова на 2-ой этаж, в камеру. Снова провожу ночи в кабинете у майора. Но это уже не следствие и не допросы, а просто отсиживание до рассвета. Иногда он снимает трубку телефона и говорит: «Ну, как там у вас? Да вот сидит здесь у меня один вражина, не хочет признаваться. Ты мне кофейку приготовь к 9 часам». Это он звонил домой. Иногда долетали голоса из других кабинетов. Однажды я услышал: «Ох ты, блядь, английская подстилка, не будешь признаваться?!». И вслед за этим рыдания. В другой раз слышал немецкую речь. Так проходило жаркое лето 1949 года на Малой Лубянке. Только в сентябре Матиек подозвал меня к столу и дал читать «мое дело» — пухлую папку с неподписанными протоколами. Это называлось актом об окончании следствия, подписанием статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса. Тогда я не знал юридических законов. О том, что при этом должен присутствовать прокурор, что имею право требовать очные ставки, свидетелей. За полгода на Малой Лубянке, кроме маленького плюгавого Герасимова, обегавшего по ночам следственные кабинеты, я вообще никого не видел.
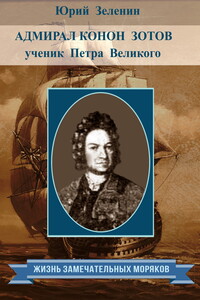
Перед Вами история жизни первого добровольца Русского Флота. Конон Никитич Зотов по призыву Петра Великого, с первыми недорослями из России, был отправлен за границу, для изучения иностранных языков и первый, кто просил Петра практиковаться в голландском и английском флоте. Один из разработчиков Военно-Морского законодательства России, талантливый судоводитель и стратег. Вся жизнь на благо России. Нам есть кем гордиться! Нам есть с кого брать пример! У Вас будет уникальная возможность ознакомиться в приложении с репринтом оригинального издания «Жизнеописания первых российских адмиралов» 1831 года Морской типографии Санкт Петербурга, созданый на основе электронной копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив структуру и орфографию оригинального издания.

«Санньяса» — сборник эссе Свами Абхишиктананды, представляющий первую часть труда «Другой берег». В нём представлен уникальный анализ индусской традиции отшельничества, основанный на глубоком изучении Санньяса Упанишад и многолетнем личном опыте автора, который провёл 25 лет в духовных странствиях по Индии и изнутри изучил мироощущение и быт садху. Он также приводит параллели между санньясой и христианским монашеством, особенно времён отцов‑пустынников.

Татьяна Александровна Богданович (1872–1942), рано лишившись матери, выросла в семье Анненских, под опекой беззаветно любящей тети — Александры Никитичны, детской писательницы, переводчицы, и дяди — Николая Федоровича, крупнейшего статистика, публициста и выдающегося общественного деятеля. Вторым ее дядей был Иннокентий Федорович Анненский, один из самых замечательных поэтов «Серебряного века». Еще был «содядюшка» — так называл себя Владимир Галактионович Короленко, близкий друг семьи. Татьяна Александровна училась на историческом отделении Высших женских Бестужевских курсов в Петербурге.
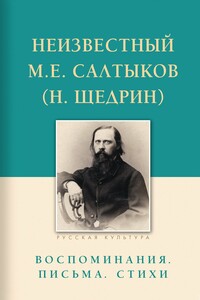
Михаил Евграфович Салтыков (Н. Щедрин) известен сегодняшним читателям главным образом как автор нескольких хрестоматийных сказок, но это далеко не лучшее из того, что он написал. Писатель колоссального масштаба, наделенный «сумасшедше-юмористической фантазией», Салтыков обнажал суть явлений и показывал жизнь с неожиданной стороны. Не случайно для своих современников он стал «властителем дум», одним из тех, кому верили, чье слово будоражило умы, чей горький смех вызывал отклик и сочувствие. Опубликованные в этой книге тексты – эпистолярные фрагменты из «мушкетерских» посланий самого писателя, малоизвестные воспоминания современников о нем, прозаические и стихотворные отклики на его смерть – дают представление о Салтыкове не только как о гениальном художнике, общественно значимой личности, но и как о частном человеке.
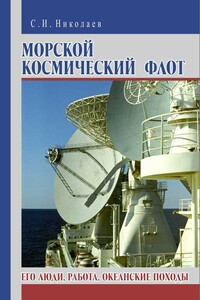
В книге автор рассказывает о непростой службе на судах Морского космического флота, океанских походах, о встречах с интересными людьми. Большой любовью рассказывает о своих родителях-тружениках села – честных и трудолюбивых людях; с грустью вспоминает о своём полуголодном военном детстве; о годах учёбы в военном училище, о начале самостоятельной жизни – службе на судах МКФ, с гордостью пронесших флаг нашей страны через моря и океаны. Автор размышляет о судьбе товарищей-сослуживцев и судьбе нашей Родины.
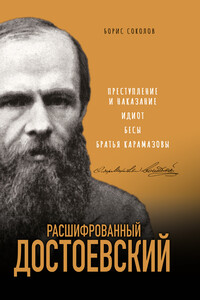
Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.