Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е - [46]
Первый. Тогда-то я пошел на большее: я показал ему кулак. Мы ехали, помню, в автобусе. Народу было много, нас все толкали. Машину вообще качало, а на поворотах все прямо падали друг на друга: на нас падали, и мы падали тоже. И вот, при одном таком повороте я нарочно посильнее упал на него. Он почувствовал, вздрогнул, но ничего не сказал и даже не поглядел на меня. «Ах ты так, не глядишь!» — подумал я. И, вытянув сзади него свою руку, не с той стороны, где стоял я, а с другой, постучал ему по плечу, причем не просто постучал, а чтобы он понял, что это все значит, и, чтобы меньше тут сомневался, в некоем («условном») ритме: «ти-та, ти-ти-та». Он машинально туда обернулся, конечно, никого не увидел (только чужие спины и плечи), понял, что это Я, покраснел до ушей, но опять не поглядел на меня. И тогда-то («ах ты так!»), чтобы ему уже совсем было ясно, я — перед его носом — помахал ему кулаком. Кулак у меня, я знаю, выразительный, экспрессивный. Конечно, я не так уж прямо помахал, что я, вот, собираюсь сейчас его бить. Я помахал довольно абстрактно, будто бы просто так. Но, с другой стороны, и не абстрактно, не просто так, а так, чтобы было понятно: вот, это кулак, вот, он такой, вот, вообще говоря, он, кулак, может бить. Меня радовало при этом также (я самодовольно ухмыльнулся), что, после того как он поглядел на мой кулак, он везде будет видеть для себя кулаки: и у пассажиров, которые держатся за поручни в автобусе вместо рук — кулаки; и у женщин на улице, которые идут из магазинов, держа свои кошёлки, на руках — кулаки; и у мальчишек, которые едут на велосипеде, сжимая рукоятки рулей, опять-таки — все кулаки; и вообще везде вокруг — кулаки, и все это — Я. И я видел, как он побледнел, как затрясся. Он опять попытался сделать вид «как ни в чем не бывало», но это ему не удавалось: он обессилел, оперся на меня, губы у него дрожали, и я видел, что ему явно хочется что-то сказать. И я ему помог (я не мог удержаться): «Вот, — намекнул я осторожно, — это все я…» Он кивнул: «Да, да». И тут, я увидел, он стал оживляться. Щеки у него опять покраснели, дыхание стало ровнее, он выпрямился и чуть-чуть от меня отодвинулся. «Это все я», — сказал я более прямо и широким и неопределенным жестом очертил все вокруг. «Да, я знаю», — сказал он с оттенком «ну и что?», словно бы это было «не то», все что-то не то, словно ему было этого мало от меня. Я решил помочь ему еще больше. «Ага, боишься?» — сказал я ему. Он молчал. «Не надо бояться», — сказал я, уже чуть-чуть отступая: «Бойся — не бойся, тут уж ничего не попишешь…» И тут я увидел, что он оживляется еще больше, еще сильнее чему-то радуется, будто бы я ему только доставляю приятное. Чему? Я ему угрожаю, а он этому радуется, будто бы я ласкаю его. Разве так можно? Но, оказывается, и так было можно. И можно было даже другое: тут я увидел, что он улыбается. Безудержная улыбка, с которой ему, видно, было не справиться, расплылась у него на лице, и он, я заметил, даже и не пытается ее скрыть. Он молчал. Он весело и проницательно глядел на меня и так улыбался. «Что все это значит?» — размышлял я лихорадочно. И первое, конечно, что мне пришло в голову (первый этап — анализ): я подумал, что он смеется надо мной! Что он хочет меня оскорбить! («Вот гад, бесчувственный гад, — ярился я внутренне. — А я для тебя столько сделал. Еще друг называется. Какой ты мне друг? Ты мне враг!») Но тут он протянул ко мне руку и осторожно погладил меня. «Ах, мой милый любимый враг, — сказал он. — Наконец-то… Наконец-то мы вместе. Наконец-то мы стали враги…» И я увидел (второй этап — синтез): он любит меня. Я понял, что он просто оговорился: он был мне друг, и он любил меня. Именно это означала его улыбка. Он любил, не смеялся! И я страшно смутился. Я тоже любил его, и я был ему другом, но достаточно ли — в ответ — я любил его? Не любил ли он меня больше, чем я его? Не любил ли я больше себя самого, чем его? «Да, да, мы друзья, — стал я бормотать ему смущенно в ответ. — Мы с тобой большие друзья. Мы неразлучны. Нас никто и водой не разольет. Мы такие друзья, каких еще не было…» И так далее, еще какую-то глупость, хотя, может быть, и надо было именно сказать эту глупость, чтобы он по ней понял, что я его люблю и — как я его люблю. И он понял. Он довольно кивнул, чего-то опять засмущался и так, смущаясь, тихонько мне прошептал: «Я готов умереть от тебя…» И я опять увидел, что он оговорился: надо было сказать не «от тебя», а «для тебя» или «ради тебя». Но чего только не скажут влюбленные, когда они любят. Каких только слов они не лепечут! Им простительно все. Он шепнул это так, будто бы ждал, что я его, вот, убью, и думал, что я собираюсь его убить. Ну да ладно. Вот так мы с ним объяснились в любви. Так мы и ехали в этом автобусе, взявшись за руки, как дети, и поддерживая друг друга.
Второй. Да, вот так мы объяснились в любви. А потом я убежал. Я убежал инстинктивно. Я не справился с собой. Я был готов к смерти, но к смерти через десять секунд, пусть через пять, но так сразу же, сию же секунду. И я убежал. Мне казалось, что он меня тут же убьет, как только я скажу ему, что я готов умереть от него.
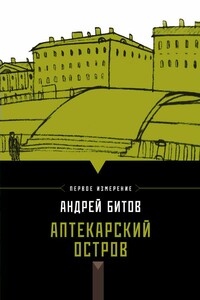
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
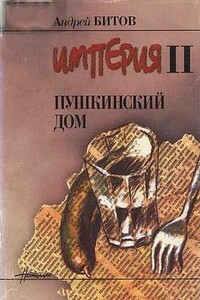
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
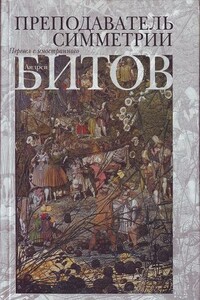
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».
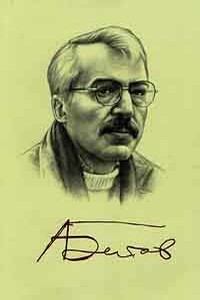
В книгу включены повести разных лет, связанные размышлениями о роли человека в круге бытия, о постижении смысла жизни, творчества, самого себя.

Рассказы в предлагаемом вниманию читателя сборнике освещают весьма актуальную сегодня тему межкультурной коммуникации в самых разных её аспектах: от особенностей любовно-романтических отношений между представителями различных культур до личных впечатлений автора от зарубежных встреч и поездок. А поскольку большинство текстов написано во время многочисленных и иногда весьма продолжительных перелётов автора, сборник так и называется «Полёт фантазии, фантазии в полёте».

Побывав в горах однажды, вы или безнадёжно заболеете ими, или навсегда останетесь к ним равнодушны. После первого знакомства с ними у автора появились симптомы горного синдрома, которые быстро развились и надолго закрепились. В итоге эмоции, пережитые в горах Испании, Греции, Швеции, России, и мысли, возникшие после походов, легли на бумагу, а чуть позже стали частью этого сборника очерков.

Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, — главная идея романа уральской писательницы.

Перед вами грустная, а порой, даже ужасающая история воспоминаний автора о реалиях белоруской армии, в которой ему «посчастливилось» побывать. Сюжет представлен в виде коротких, отрывистых заметок, охватывающих год службы в рядах вооружённых сил Республики Беларусь. Драма о переживаниях, раздумьях и злоключениях человека, оказавшегося в агрессивно-экстремальной среде.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.

Вторая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. Освобождение от «ценностей» советского общества формировало особую авторскую позицию: обращение к ценностям, репрессированным официальной культурой и в нравственной, и в эстетической сферах. В уникальных для литературы 1970-х гг. текстах отражен художественный опыт выживания в пустоте.Автор концепции издания — Б. И. Иванов.
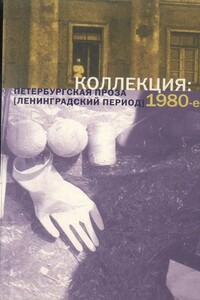
Последняя книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)». Произведения, составляющие сборник, были написаны и напечатаны в сам- и тамиздате еще до перестройки, упреждая поток разоблачительной публицистики конца 1980-х. Их герои воспринимают проблемы бытия не сквозь призму идеологических предписаний, а в достоверности личного эмоционального опыта.Автор концепции издания — Б. И. Иванов.