Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е - [24]
Я и Петрухе так говорю:
— Доберемся ж до них… До-бе-рем-ся!
Громче всех смеялся Рабинович: ему до слез понравился рассказ. Впрочем, многие во время Сэндиного чтения занимались делом. Не раз и не два коленей майора касалась чья-то жаркая рука (он тотчас сбрасывал ее с колен, чутьем чекиста понимая, что колено — это только предлог и рука непременно поднимется выше).
Майору стало дурно: он пил не закусывая. Поднявшись из-за стола, он сказал:
— Извиняюсь… — и поспешно вышел из комнаты в коридор. Дверь туалета Наганов запер, боясь покушения («половых посягательств» — так сформулировал бы это сам майор, не будь он пьян). Через десять минут, побледневший, Наганов вернулся в комнату.
В воздухе чувствовалось томление. Шли тихие разговоры, тет-а-тет. Майор, чтобы взбодриться, выпил еще стакан коньяка. Потом, не закусывая, запил его стаканом иноземного вина. Подумав при этом: «Кислятина».
В голове затяжелело. Разлилась благодать… Уже не в жаркой Африке, а на сказочных Гавайях, в Океании, в стране вечной весны почувствовал себя майор.
— Аристотелю…
Майор насторожился. В углу говорили об Аристотеле, который столько лет безуспешно разыскивался уголовным розыском после скандально известного дела о пяти частях гражданина Семенова.
— В своей «Эстетике» Аристотель дал определение катарсиса, — бубнил носатый, обращаясь к Сэнди. — Катарсис это…
Майор не испытывал катарсиса: его тошнило.
— Пойдемте! — сказал подошедший Чутких майору и взял его за руку.
— Куда?
— Спать.
— Нне хоччу!
— Идемте, идемте!
Как безвольная кукла, покорно и вяло, майор последовал в спальную комнату, ведомый Чутких. Там, не зажигая света, уверенно и быстро извращенец принялся раздевать оторопевшего Наганова. Майор пьяно всхлипывал и повторял:
— Шура… Шурочка… Где ты, жена?… Прро-ппа-ддаю!
— Ложись! Опп!
Чутких повалил майора на кровать, сдернул с него штаны. Стал раздеваться сам…
Майор осознал! Сейчас он будет изнасилован неотвратимо! За моральное разложение из милиции — вон! Может быть, будут даже судить. «Добровольно-пассивный!»… Пятно на всю жизнь. И это — в лучшем случае. А в худшем — в лагере, если посадят? Педерастам окантовывают миски для еды: брезгуют. И пользуют себе на удовольствие… А Шура? А Петька?.. Нет!
— НННЕТ!
И когда голый Чутких, часто и жадно дыша, приблизился к поверженному на кровать Наганову, майор решительно схватил его за орган посягательства своей стальной, натренированною хваткой.
Чутких вскрикнул от боли. Изменился в лице. Хватка у майора была еще та: железная, намертво.
— Попался с поличным! — прошептал майор, сжимая доказательство в руке. — Попался, голубь… Пе-де-раст!
И вдруг лицо Чутких стало покрываться мертвенно-бледными пятнами, потом стало темнеть, чернеть, скалиться черепом… И вновь побледнело.
Майор задрожал, узнав это лицо. Выпустил из хватки орган посягательства.
Это было лицо человека, найденного мертвым два дня назад на улице Моховой, дом 3, постовым Догадовым!
…— Сеня, Сеня!
Майор с трудом открыл глаза. В дверь уборной настойчиво стучали:
— Проснись! Сеня, проснись!
Майор с трудом привстал. Оправился. Облегченно подумал: «Сон!» Поднял крючок туалета.
— Извините, я немножко вздремнул…
И тут Наганову стало плохо. Очень плохо. Крайне плохо. Крайне плохо — прямо на брюки спасителя Чутких, вот уже пять минут стучавшего в дверь туалета, пытаясь разбудить Наганова.
Все дальнейшее казалось майору бредом. А может быть, к счастью, это и в самом деле был пьяный бред?
Майора отвели в комнату, положили на диван. Свет был потушен, и в темноте было слышно шуршанье снимаемой одежды, стук обуви, также поспешно снимаемой.
Чьи-то жаркие руки раздели и майора. Он не пытался даже оказать подобие сопротивления: силы противника были превосходящими. В семь раз: майор был восьмым.
Первым взобрался Рабинович. Майор отчаянно вскрикнул:
— Ой! Больно!
Его держали, посапывая, за руки и за ноги. Рабинович тоже сопел, иногда выдавливая сквозь зубы:
— Терпи, казак… Терпи-и… Тер-пии…
Но и терпя, майор вскрикивал:
— Ай! Ой! Уйй!
Со вторым, Ильей Чутких, стало легче. Потом взобрался третий, тот, носатый, что говорил об Аристотеле и его катарсисе. Катарсиса от носатого Наганов не испытал.
У четвертого, Сэнди, долго не получалось. Но в конце концов пошло и у него. Затем был пятый, майор даже не знал, кто это. Пятый сладострастно кряхтел.
Майору поднесли стакан коньяку:
— Подкрепись, Сенечка.
Наганов жадно выпил. Полегчало. Потом залез шестой и, наконец, седьмой. Опять взгромоздился Рабинович. Начался второй круг!
Майор смирился. Сопротивление было бессмысленно, да и нелепо. Оргия продолжалась всю ночь напролет. Иногда Наганову казалось, что он стал мягким, вся его нижняя половина тела…
А когда все в конце концов устали, майор забылся тут же, на диване, в тяжелом и непристойном сне.
Человек без головы держал полосатый жезл. Поезд прополз где-то вдали, вместо пейзажа. Слово было очень легким и чужим:
а — н — ус
…Он стоял на четвереньках, голый, белый. Лишь из заднего прохода свисала красная кишка, в синих прожилках. Она оживала, выползая наружу медленно и тихо, на свободу, в мир, вовне. Достала земли, поползла по пыли, словно живая… Что это?
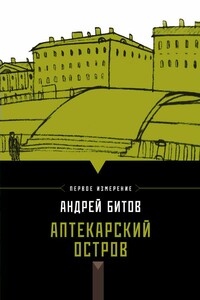
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
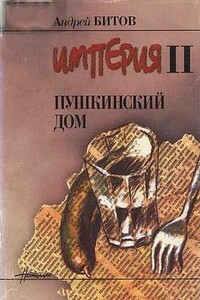
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
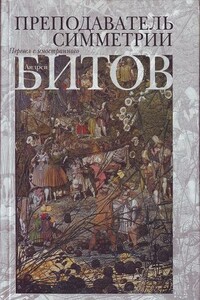
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.
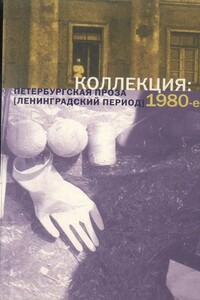
Последняя книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)». Произведения, составляющие сборник, были написаны и напечатаны в сам- и тамиздате еще до перестройки, упреждая поток разоблачительной публицистики конца 1980-х. Их герои воспринимают проблемы бытия не сквозь призму идеологических предписаний, а в достоверности личного эмоционального опыта.Автор концепции издания — Б. И. Иванов.

Вторая книга из трех под общим названием «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период)», посвященных 1960–1980-м годам XX века. Освобождение от «ценностей» советского общества формировало особую авторскую позицию: обращение к ценностям, репрессированным официальной культурой и в нравственной, и в эстетической сферах. В уникальных для литературы 1970-х гг. текстах отражен художественный опыт выживания в пустоте.Автор концепции издания — Б. И. Иванов.
