Колечко - [6]
Если я напомнил читателю, что мы живем очень, очень скоро на белом свете, то сделал это для того только, чтобы он не изумился, когда я скажу ему, что г. надворный советник Хомкин прожил в одну ночь лет десять. Да, точно он прожил в одну ночь по крайней мере десять лет. Когда он снял шляпу, то вместе с нею слетела у него с головы половина волос, а остальные были так седы, так седы, что не отличишь их от самого чистого, белого мела. Все лицо его было искрещено морщинами, в особенности около глаз, отчего казалось, будто они у него закутаны в какую-то желтую, слоистую тряпку.
На все вопросы жены: что с ним случилось? где он был? не отвечал он ни слова. В нем как будто погасло начало нравственной жизни человека. Он ходил по комнате размеренными шагами, из одного угла в другой, и только изредка для перемены испускал тяжелые вздохи.
«Испортил его кто-нибудь», — думала жена и с отчаяния спускала, одну за другою, петли своего чулка.
Теперь, для полного уразумения описываемых происшествий, надобно нам отсчитать десять месяцев назад и переселиться в квартиру г. надворного советника Хомкина. Там встречали новый год. Комнаты были освещены; гости играли в вист, ходили по комнатам, разговаривали, молчали — всякий занимался, чем мог; девицы составляли отдельный кружок. Между ними всякий бы отличил, по красоте ее, Анну Ивановну Хомкину, единственное детище надворного советника. Она была так хороша, как только может быть девушка в девятнадцать лет. Круглое, белое личико, маленький, малиновый ротик, голубые глаза, русые волосы, легкий стан, маленькая ножка, вот, кажется, довольно материала, чтобы составить красавицу. Прибавьте к тому, что Аннушка была добра и умна. С красотой, добротой и умом можно быть ангажированной не только в маленькую повесть, но даже в самый длинный и самый чувствительный роман г-жи Скюдери на роль jeune premiere[1]. Сообразив все это, не найдешь ничего странного при виде толпы обожателей, теснившихся около прекрасной Аннушки. В числе этих господ являлись на первом плане г. Братшпис и молодой человек, которого мы видели в синем сюртуке, вечером, за картами у Щекалкина и которому, однако, пора дать имя. Его звали Григорий Александрович Бонов. Madame Хомкин разливала чай и беседовала с одной из задушевных приятельниц своих, Матреной Тимофеевной, вдовой какого-то штаб-лекаря.
— Что, Марья Алексеевна, — так начала штаб-лекарша, — когда-то вашу Аннушку замуж выдадите: невеста хоть куда.
— Хорошо вам говорить, невеста хоть куда, да что в этом толку? Ума в ней, матушка, немного. Сватался хороший человек, да вишь, не по ней.
— А кто такой сватался, смею спросить без церемонии?
— Адам Адамович.
— Какой Адам Адамович?
— Господин Братшпис. Он хоть и неправославный, да очень хороший человек, и не без денег.
— А отчего Аннушка не хочет за него?
— Бог ее знает; полюбился ей молокосос, Григорий Александрович. От роду ему 25 лет, денег ни гроша, да и в картишки, говорят, поигрывает; какого тут ждать пути.
— Ну, однако ж, матушка, ведь в вашей родительской власти, не скажу принудить, но уговорить Аннушку, сделать по-вашему.
— Было бы по-моему, Матрена Тимофеевна, да муж-то мой, Бог с ним, ни слова не говорит. Кабы он прикрикнул, дело бы давно слажено было.
— Неужели же вы и его даже не можете уговорить?
— Нет, ничем; уж пыталась, да все нейдет. А в другом-то во всем, только слово скажи я, так он рад хоть в огонь. Отчего бы это, казалось; так нет, Адам Адамович ему-де не нравится. Что за причина!
В этом интересном месте разговор двух дам был прерван приходом господина Братшписа, который, подошед к чайному столу, сел возле Марьи Алексеевны с таким видом, как будто хочет вступить с нею в разговор.
Догадливая Матрена Тимофеевна тотчас смекнула дело, встала с места и удалилась, шепнув хозяйке на ухо:
— Я оставляю вас одних; вы мне потом расскажете.
Братшпис, понюхав табаку и несколько прокашлявшись, спросил хозяйку о ее здоровье.
— Слава Богу, батюшка, Адам Адамович! Как вы можете?
— Я ни то, ни се; страдаю иногда насморком и головными болями, но это не важные недуги. Да хоть бы и другое что поважнее, так не беда бы: физические болезни кое-как переносишь, а нравственные…
— Ах, царь небесный, что за такие нравственные болезни; верно, от дурного нрава, каприза, или разлитие желчи от злости?
— Нет, Марья Алексеевна, — возразил Братшпис, прикусив улыбку, — вы меня не поняли; я говорил фигурно: под болезнями нравственными разумел я страдания сердца, огорчения, обманутые надежды.
— А кто же вас обманывал?
— Никто; я сам себя обманывал.
«Я всегда говорила, что Адам Адамович умный человек, — думала про себя Марья Алексеевна, — говорит так красно, так хорошо, так фигурливо, что я, глупая, ничего не понимаю». Помолчав несколько, она спросила Братшписа:
— Как же это было, батюшка, что вы сами-то себя обманули?
— Очень просто: я думал, я льстил себя сладкою надеждою, что дочь ваша не отвергнет моих предложений, что она согласится быть подругой моей жизни, и ошибся. Вот каким образом я себя обманывал.
При слове дочь Марья Алексеевна совсем переконфузилась, а по окончании фразы она не знала, куда ей деваться.

Рассказы о море и моряках замечательного русского писателя конца XIX века Константина Михайловича Станюковича любимы читателями. Его перу принадлежит и множество «неморских» произведений, отличающихся высоким гражданским чувством.В романе «Два брата» писатель по своему ставит проблему «отцов и детей», с болью и гневом осуждая карьеризм, стяжательство, холодный жизненный цинизм тех представителей молодого поколения, для которых жажда личного преуспевания заслонила прогрессивные цели, который служили их отцы.

Книга одного из самых необычных русских писателей XX века! Будоражащие, шокирующие романы «Дневник Сатаны», «Иго войны», «Сашка Жегулев» Л Андреева точно и жестко, через мистические образы проникают в самые сокровенные потемки человеческой психики.Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе. Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики.В книгу вошли известные романы Л.Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
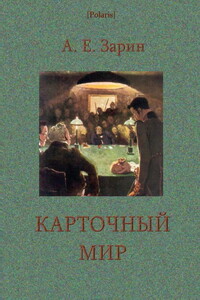
Фантастическая история о том, как переодетый черт посетил игорный дом в Петербурге, а также о невероятной удаче бедного художника Виталина.Повесть «Карточный мир» принадлежит перу А. Зарина (1862-1929) — известного в свое время прозаика и журналиста, автора многочисленных бытовых, исторических и детективных романов.
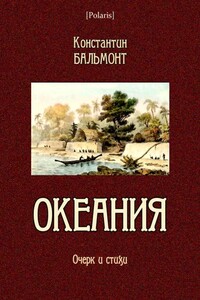
В книгу вошел не переиздававшийся очерк К. Бальмонта «Океания», стихотворения, навеянные путешествием поэта по Океании в 1912 г. и поэтические обработки легенд Океании из сборника «Гимны, песни и замыслы древних».
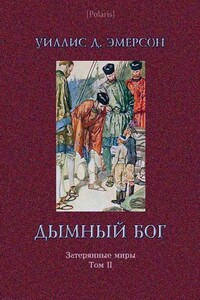
Впервые на русском языке — одно из самых знаменитых фантастических произведений на тему «полой Земли» и тайн ледяной Арктики, «Дымный Бог» американского писателя, предпринимателя и афериста Уиллиса Эмерсона.Судьба повести сложилась неожиданно: фантазия Эмерсона была поднята на щит современными искателями Агартхи и подземных баз НЛО…Книга «Дымный Бог» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций произведений, которые относятся к жанру «затерянных миров» — старому и вечно новому жанру фантастической и приключенческой литературы.

Четверо ученых, цвет европейской науки, отправляются в смелую экспедицию… Их путь лежит в глубь мрачных болот Бельгийского Конго, в неизведанный край, где были найдены живые образцы давно вымерших повсюду на Земле растений и моллюсков. Но экспедицию ждет трагический финал. На поиски пропавших ученых устремляется молодой путешественник и авантюрист Леон Беран. С какими неслыханными приключениями столкнется он в неведомых дебрях Африки?Захватывающий роман Р. Т. де Баржи достойно продолжает традиции «Затерянного мира» А. Конан Дойля.