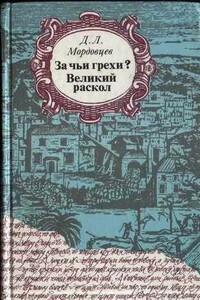Кочубей - [5]
— Что, Павлуша, задумался? По Москве, чаю, скучаешь? — говорит царь, ласково глядя на юношу.
Павлуша невольно вздрогнул. Он действительно думал о Москве, только страшной, кровавой, стрелецкой.
— А? Заскучал, поди, но Москве?
— Нету, государь, не скучаю, — отвечал юноша.
— То-то! Со мной скучать некогда.
— Некогда, государь, да и неохота.
— Правда. Скучают только дармоеды да лежебоки, А мы не лежим, — отрывисто говорил царь, глядя вдаль и тихо налегая на руль.
Юноша молчал. Слова царя так и обдали его холодной действительностью... Царь был в духе.
— А что, хотел бы ты тут жить? — снова спросил он сшито юного любимца, лукаво улыбаясь.
— Где государь поволит жить, там и я.
— Так... А, может быть, Бог и доведёт до благополучного конца, — сказал царь в раздумье.
Это сами собой сказывались его заветные думы, его мечтания.
А флотилия всё скользит неслышно по гладкой водяной поверхности холодной, неприветливой реки. Тихо кругом. Ни говору не слышно, ни смеху, ни песен. Да и как петь, когда всякий час флотилия может наткнуться на шведские корабли, на замаскированные редуты, на засады?
Глаза царя зорко следят за всей флотилией. Ничьим другим глазам он не верит, верит он только своим глазам. Он сам хочет всё видеть, всё знать... Были только одни глаза, которым он доверял, как своим собственным, — это бойкие, живые глаза Павлуши Ягужинского.
— Это моё око, — часто говорил Пётр, указывая на Павлушу, — коли Павел увидит что, то истина дойдёт до меня такою же истиною, как ежели бы я сам её видел.
А теперь Павлуша сидит такой задумчивый. Ему было нехорошо, страшно чего-то... И зачем утонул этот Кенигсек? Зачем эти проклятые бумаги он носил с собой!.. Когда Павлуша по приказанию царя запечатывал их, то он увидел между ними что-то такое страшное, отчего у него полосы стали дыбом, кровь застыла... Неужели же это правда?.. О! Как он желал бы, чтоб чти проклятые бумаги пропали, уничтожились, исчезли бы под водой вместе с трупом Кенигсека...
И Павлуша силился отогнать от себя это страшное, которое он видел в бумагах утонувшего Кенигсека. Он старался думать о своём прошлом… В этом прошлом был такой крутой перлом. И опять всё это точно во сне было… Понравился Павлуша Головкину, Гавриле Ивановичу, и он взял его к себе в жильцы, в комнатные… «Такого смазливенького паренька, как Павлуша, всякому охота держать около себя на глазах», — говаривал, бывало, Гаврило Иванович: «и показать гостям есть что — малый бойкий…» И Павлуше жилось у Головкина — не то хорошо, не то дурно; а надо было привыкать — дом знатный, можно в люди выйти… Зорко присматривается Павлуша ко всему, что около него, быстро всё понимает, и Головкин не нахвалится Павлушей… Он его любит как сына, балует его, ласкает… И Павлуше вспоминается, что почему-то ему противно становилось от этих ласк. Но у Павлуши уже образуется характер будущего государственного человека: он уже многое знает, и знает, где помолчать... Он всё обдумывает, взвешивает, всему отводит надлежащее место...
Замечает Павлушу и царь у Головкина. Павлуша и царю нравится…
И вот Павлуша у царя на глазах, и денщиках его вместе с Ванькой Орловым... Только тот больше всё за девками дворскими... А Павлуша ни-ни, не глядит на девок, как они ни заигрывают с ним... Одну только девушку не может забыть, да то не здешняя... Далеко она... а так вот и стоит перед глазами... Да и имя-то какое милое — Мотря, таких имён во всей Москве нет...
На днях только они воротились с царём из Воронежа. Царь осматривал там новые корабли, весел был, всех торопил, всё ему хочется Азовское да Чёрное море себе завоевать, из Воронежа-то! Мало того, и султана терского воронежскими кораблями из Цареграда выгнать, а Дон-от соединить и с Волгой, и с Днепром, и с Двинами обеими, и с Обью — Дон-от. Вот чадушко! Со всеми концами света задумал Дон и Воронеж соединишь... «И на тот свет, говорит, прокопаюсь — только б у меня помощники были!..» А Павлушу вместе с бывшим там в Воронеже, по малороссийским делам, генеральным судьёю Василием Кочубеем и с бумагами царь посылал из Воронежа к гетману, к Мазепе Ивану Степановичу; а гетман в то время гостил на хуторе у Кочубеихи в Диканьке... Вот там-то Павлуша и видел эту девушку, дочку Кочубея, её-то и не может он забыть...
Вот и теперь, от этой невской холодной пустыни, мысль Павлуши отлетает в ту яркую зелень юга, в эту счастливую Диканьку... Апрель в начале, a уже всё в цвету. Никогда Павлуша не подозревал даже, что так дивен и прекрасен может быть свет Божий… Деревья — вишни, яблони, груши, тёрн — словно снежною, розоватою метелью засыпаны сверху донизу — хлопья, комья, горы этого снегу цветочного, куда ни глянешь, где ни ступишь... Деревьев не видать совсем, а виден только цвет, цвет, цвет без конца... Только ниже виднеется зелень, да и та вся усыпана цветами, живыми и умирающими, опавшими, завядающими... Это — цветочное море кругом! А птицы заливаются. Господи! Павлуша так и затрепетал всем телом, когда очутился в этом раю... Разом как будто воскрес один день из его детства, из той золотой, забытой, застланной пеленою лет поры, когда они жили где-то далеко там, за Днепром... Только не слышно плачущем скрипки доброго татка... Но зато поют птицы, столько голосов, столько мелодий неуловимых, столько подмывающего, доброго, нежного, стадного, что после московского холода и угрюмого и молчанья природы, Павлуша не выдержал и, бросившись лицом на траву, зарыдал...
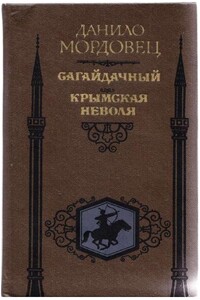
В книгу русского и украинского писателя, историка, этнографа, публициста Данила Мордовца (Д. Л. Мордовцева, 1830— 1905) вошли лучшие исторические произведения о прошлом Украины, написанные на русском языке, — «Сагайдачный» и «Крымская неволя». В романе «Сагайдачный» показана деятельность украинского гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, описаны картины жизни запорожского казачества — их быт, обычаи, героизм и мужество в борьбе за свободу. «Крымская неволя» повествует о трагической судьбе простого народа в те тяжелые времена, когда иноземные захватчики рвали на части украинские земли, брали в рабство украинское население.Статья, подготовка текстов, примечания В.

Предлагаем читателю ознакомиться с главным трудом русского писателя Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905)◦– его грандиозной монографией «Исторические русские женщины». Д.Л.Мордовцев —◦мастер русской исторической прозы, в чьих произведениях удачно совмещались занимательность и достоверность. В этой книге мы впервые за последние 100 лет представляем в полном виде его семитомное сочинение «Русские исторические женщины». Перед вами предстанет галерея портретов замечательных русских женщин от времен «допетровской Руси» до конца XVIII века.Глубокое знание истории и талант писателя воскрешают интереснейших персонажей отечественной истории: княгиню Ольгу, Елену Глинскую, жен Ивана Грозного, Ирину и Ксению Годуновых, Марину Мнишек, Ксению Романову, Анну Монс и ее сестру Матрену Балк, невест Петра II Марью Меншикову и Екатерину Долгорукую и тех, кого можно назвать прообразами жен декабристов, Наталью Долгорукую и Екатерину Головкину, и еще многих других замечательных женщин, включая и царственных особ – Елизавету Петровну и ее сестру, герцогиню Голштинскую, Анну Иоанновну и Анну Леопольдовну.
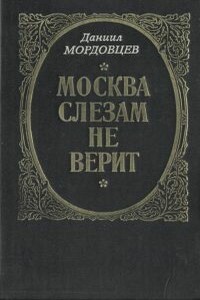
Историческая беллетристика Даниила Лукича Мордовцева, написавшего десятки романов и повестей, была одной из самых читаемых в России XIX века. Не потерян интерес к ней и в наше время. В произведениях, составляющих настоящий сборник, отражено отношение автора к той трагедии, которая совершалась в отечественной истории начиная с XV века, в период объединения российских земель вокруг Москвы. Он ярко показывает, как власти предержащие, чтобы увеличить свои привилегии и удовлетворить личные амбиции, под предлогом борьбы за религиозное и политическое единомыслие сеяли в народе смуту, толкали его на раскол, духовное оскудение и братоубийственные войны.
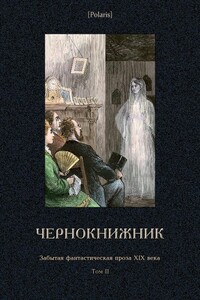
В сборник вошли фантастические произведения А. Емичева, В. Львова, Н. Тихорского, А. Тимофеева, Ф. Булгарина, В. Одоевского, а также анонимных и псевдонимных русских авторов первой половины XIX века. Большая часть рассказов и повестей сборника переиздается впервые.
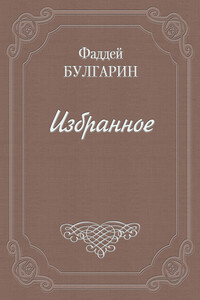
«Мы уже до того дожили на белом свете, что философы и моралисты усомнились в существовании дружбы, а поэты и романисты загнали ее в книги и так изуродовали ее, что кто не видал ее в глаза, тот никоим образом ее не узнает. В самом деле, неужели можно назвать священным именем дружбы эти связи, основанные на мелких расчетах самолюбия, эгоизма или взаимных выгод? Мы видим людей, которые живут двадцать, тридцать лет в добром согласии, действуют заодно, никогда не ссорятся, доверяют один другому, и говорим, вот истинные друзья…».

В клубе работников просвещения Ахмед должен был сделать доклад о начале зарождения цивилизации. Он прочел большое количество книг, взял необходимые выдержки.Помимо того, ему необходимо было ознакомиться и с трудами, написанными по истории цивилизации, с фольклором, историей нравов и обычаев, и с многими путешествиями западных и восточных авторов.Просиживая долгие часы в Ленинской, фундаментальной Университетской библиотеках и библиотеке имени Сабира, Ахмед досконально изучал вопрос.Как-то раз одна из взятых в читальном зале книг приковала к себе его внимание.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
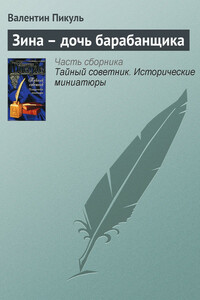
«…Если гравер делает чей-либо портрет, размещая на чистых полях гравюры посторонние изображения, такие лаконичные вставки называются «заметками». В 1878 году наш знаменитый гравер Иван Пожалостин резал на стали портрет поэта Некрасова (по оригиналу Крамского, со скрещенными на груди руками), а в «заметках» он разместил образы Белинского и… Зины; первого уже давно не было на свете, а второй еще предстояло жить да жить.Не дай-то Бог вам, читатель, такой жизни…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
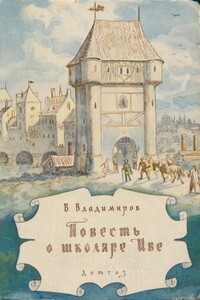
В книге «Повесть о школяре Иве» вы прочтете много интересного и любопытного о жизни средневековой Франции Герой повести — молодой француз Ив, в силу неожиданных обстоятельств путешествует по всей стране: то он попадает в шумный Париж, и вы вместе с ним знакомитесь со школярами и ремесленниками, торговцами, странствующими жонглерами и монахами, то попадаете на поединок двух рыцарей. После этого вы увидите героя смелым и стойким участником крестьянского движения. Увидите жизнь простого народа и картину жестокого побоища междоусобной рыцарской войны.Написал эту книгу Владимир Николаевич Владимиров, известный юным читателям по роману «Последний консул», изданному Детгизом в 1957 году.
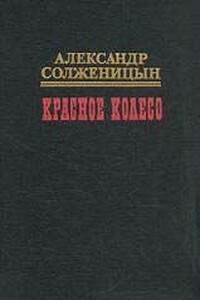
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
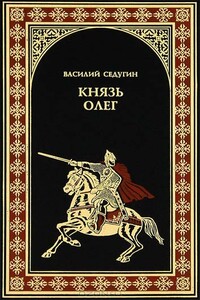
Конец IX века. Эпоха славных походов викингов. С юности готовился к ним варяжский вождь Олег. И наконец, его мечта сбылась: вместе со знаменитым ярлом Гастингом он совершает нападения на Францию, Испанию и Италию, штурмует Париж и Севилью. Суда норманнов берут курс даже на Вечный город — Рим!..Через многие битвы и сражения проходит Олег, пока не поднимается на новгородский, а затем и киевский престол, чтобы объединить разноплеменную Русь в единое государство.
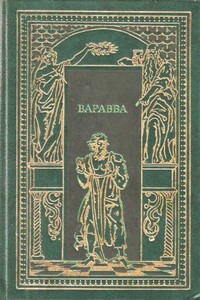
Книга посвящена главному событию всемирной истории — пришествию Иисуса Христа, возникновению христианства, гонениям на первых учеников Спасителя.Перенося читателя к началу нашей эры, произведения Т. Гедберга, М. Корелли и Ф. Фаррара показывают Римскую империю и Иудею, в недрах которых зарождалось новое учение, изменившее судьбы мира.
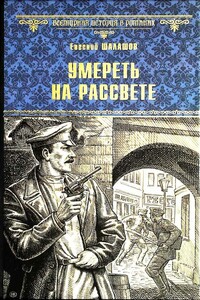
1920-е годы, начало НЭПа. В родное село, расположенное недалеко от Череповца, возвращается Иван Николаев — человек с богатой биографией. Успел он побыть и офицером русской армии во время войны с германцами, и красным командиром в Гражданскую, и послужить в транспортной Чека. Давно он не появлялся дома, но даже не представлял, насколько всё на селе изменилось. Люди живут в нищете, гонят самогон из гнилой картошки, прячут трофейное оружие, оставшееся после двух войн, а в редкие часы досуга ругают советскую власть, которая только и умеет, что закрывать церкви и переименовывать улицы.
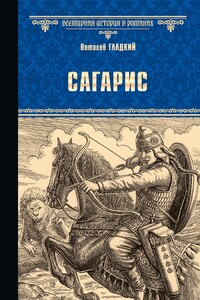
Древний Рим славился разнообразными зрелищами. «Хлеба и зрелищ!» — таков лозунг римских граждан, как плебеев, так и аристократов, а одним из главных развлечений стали схватки гладиаторов. Смерть была возведена в ранг высокого искусства; кровь, щедро орошавшая арену, служила острой приправой для тусклой обыденности. Именно на этой арене дева-воительница по имени Сагарис, выросшая в причерноморской степи и оказавшаяся в плену, вынуждена была сражаться наравне с мужчинами-гладиаторами. В сложной судьбе Сагарис тесно переплелись бои с римскими легионерами, рабство, восстание рабов, предательство, интриги, коварство и, наконец, любовь. Эту книгу дополняет другой роман Виталия Гладкого — «Путь к трону», где судьба главного героя, скифа по имени Савмак, тоже связана с ареной, но не гладиаторской, а с ареной гипподрома.