Книга 1. На рубеже двух столетий - [18]
Он поражал младенца кротчайшим лицом, просиявшим улыбкою; ведь некрасивый и часто свирепый на вид; кипяток: раскричится, — на весь Арбат слышно; а мы — не боимся; улыбка отца была нежная, просто пленительная; лицо — славное: не то Сократа, не то — печенега.
Вспоминая, писал о нем в молодые годы:
И всю жизнь, вплоть до этого мига, воспоминание об отце вызывает во мне строки, ему посвященные:
Иные из жестов отца, его слов, афоризмов, весьма непонятных при жизни, вспыхивают мне ныне, как молньи; и я впервые его понимаю в том именно, в чем он мне был непонятен.
«Протертый профессорский стол с очень выцветшим серо-зеленым сукном, проседающий кучами книг…; падали: карандаши, карандашики, циркули, транспортиры, резиночки…; валялись листочки и письма с французскими, шведскими, американскими марками, пачки повесток…, нераспечатанных и распечатанных книжечек, книжек и книжиц от Ланга, Готье…; составлялись огромные груды, грозящие частым обвалом, переносимые на пол, под стол и на окна, откуда они поднимались все выше, туша дневной свет и бросая угрюмые сумерки на пол, чтобы… подпрыгнуть на шкаф, очень туго набитый коричневыми переплетами, и посыпать густо сеемой пылью обои потертого, шоколадного цвета и — серого папочку» («Крещеный Китаец», стр. 5)>4.
«Он отсюда вставал; и рассеянно шел коридором, столовой; и попадал он в гостиную; остановившись пред зеркалом, точно не видя себя, он стоял и вычерчивал пальцем по воздуху знаки…» (стр. 6)>5. «Домашний пиджак укорочен; кончается выше жилета; пиджак широчайше надут; панталоны оттянуты; водит плечами, переправляя подтяжки; подтянет — опустятся…» (стр. 7).
«… — Что вы такое? — окликнет его проходящая мама… Он — высунет голову и поморгает на мамочку робкими глазками, будто накрыли его.
— Ах, да я-с!
— Ничего себе…
— Так-с!
Барабанит ногами к себе в кабинетик, какой-то косой…
— Да, — идите себе…
— Вычисляйте»… (Ibidem)>6.
Что отец мой был крупен и удивительно оригинален, глубок, что он известнейший математик, то было мне ведомо; поглядеть на него — станет ясно; и — все-таки: не подозревал я размеров его; «летящие монады… не существуем мы»; и он в нашей квартирочке, да и в других, очень часто, присутствуя, как бы отсутствовал; «и мы — громады, где в мире мир трепещущий зажжен»; был он просто огромен в иных из своих выявлений, столь часто беспомощных: быт, где он действовал, — карликовый: в нем ходил он, сгибаяся и представляя собою смешную фигуру; всегда отмечалось мне: странная связь существует меж нами, а разногласия все углубляются; но чем становилися глубже они, тем страннее друг к другу, сквозь них, мы влечемся, вперяясь друг в друга, как бы бормоча:
Возмущался я: как может он говорить так, как он говорил об Ибсене; о… Кнуте Гамсуне:
— Ну-с, мой дружок, как твой «кнут»?
Возмущался и он, наблюдая меня:
Тем не менее наискось похаживая по столовой, мы мирно беседовали: о причинности в понимании Вундта, иль об энергии в пониманье Оствальда; вопрос за вопросом вставал:
Вдруг, с прехитрою, мне непонятной лукавостью:
— А знаешь, умная бестия этот твой Брюсов! Такие фразы, однако, срывались уже перед смертью, когда, задыхайся от припадка ангины, в своем перетертом халатике тихо полеживал он на постели, уткнув жарко дышащий нос в третий выпуск тогда появившихся только что «Северных Цветов»>10.
Я был темен отцу в «декадентских» моих выявленьях; и он был мне темен в те годы; был темен парением в труднейших сферах аритмологии, когда грустно жаловался:
— Знаешь, — наши профессора-математики далеко не все могут усвоить мои последние работы.
И перечислял, какие именно математики могут его понять: насчитывал он лишь с десяток имен, во всем мире, разбросанных.
Был он мне темен в другом еще; в жизненных жестах; например: в экспрессии выбега из кабинетика в быт; ничего не видит, не слышит, — и вдруг, совершенно случайно расслышав, как что-то кухарка бормочет о чистке картофеля; и — как снег на голову: из отворенной двери карманом куртчонки своей зацепляясь за дверь, прямо в кухню:
— Не так-с надо чистить картофель: вот как-с! Цифрами, формулами начинает выгранивать методы: чистки картофеля или морения тараканов, которые вдруг завелись; помню сцену: приехал к отцу математик по спешному делу из дальней провинции; мой же отец, стоя на табурете, имея по правую руку кухарку, по левую горничную со свечами, спринцовкой опрыскивал тараканов испуганных, с ужасом им вдруг в буфете открытых:
— Вот видите-с, — как-с: негодяй убегает, а я его — так-с.

Что такое любовь? Какая она бывает? Бывает ли? Этот сборник стихотворений о любви предлагает свои ответы! Сто самых трогательных произведений, сто жемчужин творчества от великих поэтов всех времен и народов.

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
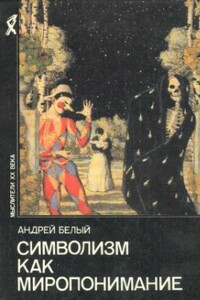
Андрей Белый (1880–1934) — не только всемирно известный поэт и прозаик, но и оригинальный мыслитель, теоретик русского символизма. Книга включает наиболее значительные философские, культурологичекие и эстетические труды писателя.Рассчитана на всех интересующихся проблемами философии и культуры.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».Помимо «Петербурга» в состав книги вошли стихотворения А.Белого из сборников «Золото в лазури», «Пепел» и поэма «Первое свидание».

Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания А.В. Лаврова.Тексты четырех «симфоний» Андрея Белого печатаются по их первым изданиям, с исправлением типографских погрешностей и в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации (но с сохранением специфических особенностей, отражающих индивидуальную авторскую манеру). Первые три «симфонии» были переизданы при жизни Белого, однако при этом их текст творческой авторской правке не подвергался; незначительные отличия по отношению к первым изданиям представляют собой в основном дополнительные опечатки и порчу текста.

В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения и сил стоила им война.

Франсиско Гойя-и-Лусьентес (1746–1828) — художник, чье имя неотделимо от бурной эпохи революционных потрясений, от надежд и разочарований его современников. Его биография, написанная известным искусствоведом Александром Якимовичем, включает в себя анекдоты, интермедии, научные гипотезы, субъективные догадки и другие попытки приблизиться к волнующим, пугающим и удивительным смыслам картин великого мастера живописи и графики. Читатель встретит здесь близких друзей Гойи, его единомышленников, антагонистов, почитателей и соперников.

Автобиография выдающегося немецкого философа Соломона Маймона (1753–1800) является поистине уникальным сочинением, которому, по общему мнению исследователей, нет равных в европейской мемуарной литературе второй половины XVIII в. Проделав самостоятельный путь из польского местечка до Берлина, от подающего великие надежды молодого талмудиста до философа, сподвижника Иоганна Фихте и Иммануила Канта, Маймон оставил, помимо большого философского наследия, удивительные воспоминания, которые не только стали важнейшим документом в изучении быта и нравов Польши и евреев Восточной Европы, но и являются без преувеличения гимном Просвещению и силе человеческого духа.Данной «Автобиографией» открывается книжная серия «Наследие Соломона Маймона», цель которой — ознакомление русскоязычных читателей с его творчеством.

Работа Вальтера Грундмана по-новому освещает личность Иисуса в связи с той религиозно-исторической обстановкой, в которой он действовал. Герхарт Эллерт в своей увлекательной книге, посвященной Пророку Аллаха Мухаммеду, позволяет читателю пережить судьбу этой великой личности, кардинально изменившей своим учением, исламом, Ближний и Средний Восток. Предназначена для широкого круга читателей.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.