Ключи заветные от радости - [75]
Солнце село за далекими дымчатыми лесами, и святая вечерняя тишина опустилась над зоревой Волгой и над соломенными крышами села Коростелова, когда он, усталый, едва переводя дух от волнения, подошел к своей старой избе с опрокинутым забором и яблонями в белом цвету.
Не смея сразу войти в избу, он сел на скамейку под яблонями и закашлялся. Скрипнула дверь избы, и на крыльце показалась маленькая старушка, вся в черном, как монашенка.
Чувство ли матери подсказало, что сидит на скамейке потерянный ею сын, жалость ли к этому усталому, кашляющему кровью человеку, сына ли напомнил он, но только она сошла с шатких ступенек крыльца, подошла к нему, села с ним рядом и без слов стала гладить бледные, костлявые руки незнакомого.
Завитухин вздрогнул, увидав родное лицо матери, опустился на землю, положил голову на ее колени и заплакал:
– Маменька!..
Много хороших нежных слов было припасено матери в его сердце, но ничего, кроме слова «маменька», сказать не мог.
Мать тепло и крепко обвила его худую шею, и радостно, тихо заплакала, и не могла найти слов, чтобы выразить свою нечаянную радость»
Семен прижимался к матери и слышал, как билось ее сердце.
Он закашлялся. И из горла хлынула кровь. Она заливала подбородок и густыми, алыми змейками сползала по зеленой солдатской гимнастерке.
Мать платком утирала подбородок сына и с бесконечной тревогой и нежностью спрашивала:
– Сеничка, сыночек мой! Что с тобой, родименький мой?
– Вы не беспокойтесь, мамаша, – утешал ее сын, стараясь улыбаться, – все пройдет. Я поправлюсь. Помогать тебе буду… Забор вот поправить надо. Яблоньки подрезать… Ишь, они как одичали… Вы за меня, маменька, не тревожьтесь. Все пройдет. Кашель у меня меньше стал, и облегчение некоторое обнаруживается…
Когда засыпал Завитухин в родной своей избе, то долго сквозь легкий сон слышал, как молилась мать перед старенькими образами и как дрожали за окном яблони в белом цвету.
Утром, с восходными зорями Завитухин проснулся. Осторожно, чтобы не разбудить мать, он вышел из избы на крыльцо.
Утро теплое, розовое. Мягко кудрявились белые облачинки. На цветах яблонь роса. С голубой
Волги веяло прохладой. В солнце и голубые ризы одевалась крестьянская земля.
В душе Семена поднималось забытое крестьянское чувство. Жадно захотелось работы. Родной, мужицкой работы, в которой целое поколение Завитухиных находило радость и оправдание жизни.
Захваченный жаждой работы, он не хотел больше думать о своей смертной болезни.
– Ничего, – утешал себя с улыбкой, – это пройдет. Подышу деревенским воздухом, окрепну, и все будет в совокупности.
Семен обошел двор, хозяйским глазом осмотрел одичавшие яблони, опрокинутый забор, шаткие гнилые ступени крыльца и деловито, по-хозяйски, слегка нараспев произнес:
– Работы-то много! Ишь, как все покачнулось. Ну, да это мы, Бог даст, наладим…
В груди поднимался колючий клокот кашля, но Завитухин старался подавить его, чтобы этим заглушить мысль о болезни.
В сарае он нашел топор, раздобыл гвоздей и взялся было починить опрокинутый забор, но не успел вбить и гвоздя, как почувствовал себя дурно, сел на землю и закашлялся долгим хрипящим кашлем.
Когда успокоился от кашля, подошел к яблоне, обнял ее шероховатый стан и заплакал.
Воротился в избу бледный, с дрожащими ногами и лег на полати, с тоской глядя, как золотые солнечные лучи проникали в избу и дрожали на стене тени от старых яблонь.
Как таяние вечерней зари, как догорание восковой свечи в одиноком храме, проходили на земле последние дни Семена Завитухина. Наступила последняя предсмертная тягота. Не думалось больше о земле, о работе… Мысль тянулась больше к тому, что выше земли, выше солнца и звезд, к невечернему миру, о котором так грустно пели когда-то под окнами странники-слепцы.
Часто звал к себе мать, гладил морщинистые ее руки и все просил рассказать ему что-нибудь про старину, когда леса были дремучее, нивы плодороднее, люди сильнее и все было по-иному.
И мать, едва пересиливая рыдания, древними стихами рассказывала ему бывальщину. Высокий и тонкий лад его дум так созвучно сливался с древними песенными словами матери, и была на душе особенная утешенность.
В один из золотых сентябрьских дней позвал он к себе мать и сказал ей:
– Маменька… голубушка… Отвези меня в Николину пустынь. Помолиться хочу перед смертью и обелить себя покаянием… Много грехов у меня, маменька… Ой, как много… Страшных грехов!
– Не тяжело ли тебе будет, Сеничка? Верст тридцать, поди, до Николиной пустыни, истомишься в до роге-то, сыночек!
– Не препятствуй мне, маменька. Пусть эта дорога подвигом моим будет, веригами моими. Отвези меня в пустынь… Пустынь… Пустыня, – бредово шептал Семен. – слово-то какое приятное… тихое утешное слово… Помнишь, маменька, пела ты как-то о прекрасной мати-пустыни? «Мати-пустыня, приюти сиротку…»
Чтобы не выдать сыну своей печали, уходила мать в сени и там плакала.
Одели Семена в белую чистую рубаху, укутали в шубу, под руки повели к телеге, положили его на солому, и повезла мать сына холодноватым, золотым сентябрьским днем в Николину пустынь.
Лежал Семен вдоль телеги и большими проясненными долгой болезнью глазами смотрел в глубокое синее небо, и уже не было желания быть на земле, а хотелось скорее слиться с этим небом и лечь бок о бок с прадедами, у края кладбищенской церкви, откуда будет доноситься кроткое примиряющее пение.

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА «И только храм остался для нас единственным уголком Святой Руси, где чувствуешь себя пригретым и обласканным». Святая Русь: ее люди, ее церквушки, бескрайние поля, вековые леса; радость праздников, запах ладана, пасхальных куличей… Радость и грусть — жива ли Святая Русь? Та, которую помнит душа и которой взыскует душа. На этот вопрос отвечают герои В. Никифорова-Волгина, отвечают тихой любовью и глубокой верой. Книга «Воспоминания детства» предназначена для семейного чтения.
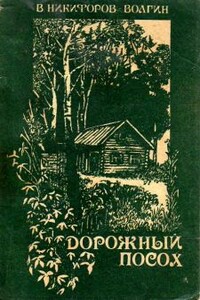
Василий Акимович Никифоров-Волгин (24 декабря 1900 (6 января 1901), деревня Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии — 14 декабря 1941, Вятка) — русский писатель.Родился в д. Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии в семье мастерового. Вскоре после рождения Василия семья переехала в Нарву. Не имея средств для окончания гимназии, Никифоров-Волгин в детстве и юности много занимался самообразованием, хорошо узнал русскую литературу. Его любимыми писателями были Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов. С. Есенин.В 1920 году Никифоров-Волгин стал одним из организаторов «Союза русской молодежи» в Нарве, устраивающим литературные вечера и концерты.

Рассказы Василия Никифорова-Волгина — любимое чтение православной семьи. Его книга — поистине народная книга! В настоящем сборнике все тексты выверены по первоизданиям, включены ранее неизвестные произведения. Рассказы расположены согласно литургическому году, в порядке следования праздников. Впервые представлены литературные оценки душеполезных рассказов писателя, приведена по существу полная библиография его сочинений. Книга украшена оригинальными рисунками.

Накануне летних каникул родители задумываются, что выбрать для детского православного чтения: как сделать чтение на отдыхе душеполезным? В этой книге собраны рассказы русских писателей о летних приключениях детей, пройдя через которые маленькие герои приобретают немалый духовный опыт. Это захватывающее чтение для всей семьи, ведь взрослые тоже были детьми и когда-то впервые открывали мир Божий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.