Ключи заветные от радости - [67]
Закрыв лицо землистыми ладонями, Осип продолжал, не то смеясь, не то придушенно плача:
– В Покровском церковь совсем закрыли. Сиротой стоит. Ни панихидки отпеть, ни так помолиться. В ограде парни с девками балуются, гармонь, лясы да плясы. Что ж это, а? Как же это можно, чтобы заместо колоколов гармонь, скажем?
Пытливый, скорбный голос бился о колокола, и они гудели.
Под колебание меди Осип говорил не то с самим собой, не то с потревоженными колоколами:
– Был я онамеднясь в городе. Зашел «за нуждою». Гляжу – на полу листы с буквами церковной печати. Подымаю. Не поверишь ли, листы из Евангелия. Слышь – Евангелия! Как же это, а?
Мерцал утишный вечер. В ограде шелестели березы. Ворковали голуби, и по зеленым ржаным полям пробегал ветер. На колоколах пылало затихающее солнце.
– Собрал я святые листочки, на реке перемыл, связал их бечевкой да и пустил в воду. Пускай, думаю, плывут слова Божьи от человечьего поругания… – И после долгого раздумья тихо добавил: – В набат порой ударить хочется. Ночью ударить, всех пробудить… Душе моя, душе моя, восстани, что спиши! Конец приближается! Как же – с храмов Господних святые кресты снимать, да как это можно – камнем в Божие милосердие! Чует мое сердце – не к добру сие поругание. Большая от этого скорбь произойдет!..
Крикнул сторож Иона в березовой ограде:
– Эй, звонари! Трезвонь к Евангелию!..
Странники
За лесом вспыхивали молнии. Предгрозовая тьма скрыла солнце и тяжело побежала по знойной земле. Низко опускались тучи, бросая дымные тени на полевые просторы. Шла гроза. Пылила большая дорога. От ветра сгибались ветлы.
Шли по дороге, опираясь на березовые батожки, слепой дед и поводырь отрок. У обоих за плечами латаные пестрядинные сумы. На ногах лапти-шептуны[8]. На груди у деда медный осьмиконечный крест.
Дед устал. Дышит через силу. Слезятся от пыли белые незрячие глаза. Гроза все ближе да ближе, а скрыться негде… Поле, небо да ветлы придорожные. Поводырь лениво ведет деда за руку, с испугом смотрит в темно-багряное небо и помыкает деда.
– Скорее, дедушка! До грозы надоть добраться до часовенки Расстани!
– Рад бы скорее, внучек, да не идут мои ноженьки. Устал я. Грудь болит. Нет дыхания мне. К земле тянет. Не смертушка ли мне, странному, бездорожному?
– С устатку это, дедушка! Скоро дойдем…
– Веди, веди, коли скоро… Микола-угодник! Путников покровитель, возьми тяжесть мою странническую!
На большую дорогу, в мягкую горячую пыль падает тяжелый дождь.
Странники перешли ручеек по хлипкому деревянному мостику, обогнули зеленый взлобок и дошли до часовни. Стоит она у большой дороги. Ветхая, шаткая, солнцем обожженная. Дверь ее на одной петле держится. Главка с крестом набок склонилась. Оконце заколочено сизой от древности доской.
– Часовенка-то совсем рухает, дедушка!
– Устарела, приютная… Не будет скоро келейки для странников… – лепечет дед и бесслезно плачет.
– Пойдем, дедушка, в часовенку. Ишь, гроза-то какая всполошная!
Дед не трогается с места. Опирается руками на батог, качает головой и всхлипно говорит:
– Когда я махоньким был, внучек, я с бабкой часто ходил к этой часовенке. Образ тут Спаса, чудотворный, и мы цветами его наряжали. Родник был здесь целебный, бойкий такой и звонкий… Вода студеная-студеная и чистая, как слеза. Между каменьями иконка вделана, и рядом берестяной ковшичек… Дубы здесь росли. Большие. Вековые. Ляжешь под их храмину, а они шумят, шумят и укачивают тебя – как в зыбке!..
Голос деда дрожит и колышется. На лысую голову падают дождевые капли и струятся крупными слезами по желтому и морщинистому лицу его.
– Да… были вековые дубы, а теперь их нет… дубов-то. Родника целебного нет. Скоро и часовенки, Боговой келии, не будет.
Он ощупью подходит к часовенке, и дрожащими руками касается черных ее стен, и приникает к ним заплаканным лицом.
Упал дождь, и зеленая земля густо зазвучала кустарниками, ветлами и травами. Синие молнии перекрестили небо. Тяжелой падающей медью загрохотал гром.
Дед и поводырь схоронились в темной часовне, пахнущей засохшими цветами, кипарисом и пылью. Сели на полу у киота Спаса. Прижались друг к другу.
– Боязно, дедушка! Ишь, как молонья освечает!..
– Не бойся, дитятко, здесь Богова тишина. Спас благоуветливый нас голубит. Тише, внучек, тише. Господь на землю гневается. Свят, свят, святый Боже… Озари стадо Твое зарею благодати Твоего заступления, жизни сподоби немерцающей. Лицо земли осияй светом невечерним…
– Молчи, деда, страшно мне!
– Не бойся, здесь Богова тишина…
Дед молчит, гладит рукой голову внука и к чему-то прислушивается, затаив дыхание.
– Ась?
– Тише, дедушка! Никто тебя не кличет!
– Как будто бы кто кликнул меня?.. Так явственно кликнули: Са-а-вва-тий!..
Дед осеняет себя частыми крестами, нагибается к испуганному внуку и шепчет:
– Это смерть меня кличет… Пожил я, и хватит. Тебе, ясному, вольготней будет… Не пужайся… Груско[9] мне на земле… Дубов старых нет, родника нет, рухает часовенка, нас, старых, – не слушают. Неприютно мне на земле! Надо на покой… к своим… Не плачь, дитятко, не плачь, бесприютный, терпеливый мой… Чу! – насторожился дед. – Опять кликнули… Явственно. Зовут!

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА «И только храм остался для нас единственным уголком Святой Руси, где чувствуешь себя пригретым и обласканным». Святая Русь: ее люди, ее церквушки, бескрайние поля, вековые леса; радость праздников, запах ладана, пасхальных куличей… Радость и грусть — жива ли Святая Русь? Та, которую помнит душа и которой взыскует душа. На этот вопрос отвечают герои В. Никифорова-Волгина, отвечают тихой любовью и глубокой верой. Книга «Воспоминания детства» предназначена для семейного чтения.
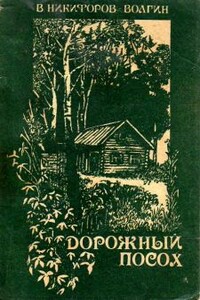
Василий Акимович Никифоров-Волгин (24 декабря 1900 (6 января 1901), деревня Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии — 14 декабря 1941, Вятка) — русский писатель.Родился в д. Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии в семье мастерового. Вскоре после рождения Василия семья переехала в Нарву. Не имея средств для окончания гимназии, Никифоров-Волгин в детстве и юности много занимался самообразованием, хорошо узнал русскую литературу. Его любимыми писателями были Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов. С. Есенин.В 1920 году Никифоров-Волгин стал одним из организаторов «Союза русской молодежи» в Нарве, устраивающим литературные вечера и концерты.

Рассказы Василия Никифорова-Волгина — любимое чтение православной семьи. Его книга — поистине народная книга! В настоящем сборнике все тексты выверены по первоизданиям, включены ранее неизвестные произведения. Рассказы расположены согласно литургическому году, в порядке следования праздников. Впервые представлены литературные оценки душеполезных рассказов писателя, приведена по существу полная библиография его сочинений. Книга украшена оригинальными рисунками.

Накануне летних каникул родители задумываются, что выбрать для детского православного чтения: как сделать чтение на отдыхе душеполезным? В этой книге собраны рассказы русских писателей о летних приключениях детей, пройдя через которые маленькие герои приобретают немалый духовный опыт. Это захватывающее чтение для всей семьи, ведь взрослые тоже были детьми и когда-то впервые открывали мир Божий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.