Ключи заветные от радости - [64]
Под ногами хрустят ломкие подзимки.
Петька шагает позади деда. Ему лет восемь. В тулупчике. На глаза лезет тятькина шапка. В руке у него верба, пахнущая ветром, снежным оврагом и чуть-чуть тепловатым солнцем.
Лес гудел зарождающейся весенней силой. Петьке почудился дальний звон. Он остановился и стал слушать.
– Дедушка!.. Чу!.. Звонят…
– Это лес звенит. Гудит Господень колокол… Весна идет, оттого и звон!.. – отвечает дед. Петька спросил деда:
– В церкву идем, дедушка?
– В церкву, любяга, к Светлой заутрене.
– Да она сгорела, дедушка! Летось ведь пожгли. Нетути церкви. Кирпичи да головки одни…
– Ничего не значит! – сурово отвечает Софрон.
– Чудной!.. – солидно ворчит Петька. – Церкви нетути, а мы бредем! Мара, что ли, на деда напала? Сапоги только истяпаем!
Среди обгорелого сосняка лежали черные развалины церкви. Дед с внуком перекрестились.
– Вот и пришли… – как бы сквозь взрыд сказал Софрон. Он долго стоял, опустив голову и свесив руки. Приближалась знобкая, но тихая пасхальная ночь. Софрон вынул из котомки толстую восковую свечу, затеплил ее, поставил на камень среди развалин. Помолился в землю и запел: – Христос воскресе из мертвых… – похристосовался с внуком и сел на обгорелое бревно, – Да… Шесть десятков лет ходил сюда. На этом месте с тятенькой часто стоял и по его смерти место сие не покинул. Тут икона святителя Николая стояла… В одной ручке угодник церковочку держал, а в другой меч… И бывало, что ни попросишь у него, он всегда подаст тебе!.. До-о-брый угодник, послушливый да зовкий!.. Да, вот… А тута, любяга, алтарь стоял… Встань на коленки и поклонись, милой, месту сему… Так вот… Эх, Петюшка, Петюшка…
Ничего больше Софрон не сказал. Он сидел до того долго, что Петьке захотелось спать. Он сел с дедом рядышком и опустил голову на его колени, а дед прикрывал его полою тулупа.
Ветер
Седыми от инея полями, синим осенним пред-утренником чахлый мужичонка Трифон вез на скрипучей телеге Павла Тригорина в маленький уездный городишко.
Пятнадцать лет не был Тригорин в своем городе. А когда-то босоногим мальчуганом бегал по его зеленым улицам, таскал с ребятами яблоки с чужих садов, подавал в церкви кадило батюшке Андрею, учился в церковно-приходской школе и тайком вздыхал по батюшкиной дочке Насте.
Тригорин призакрыл глаза и представил себе маленький городок, с его тенистыми одичавшими садами, крепкими купеческими домами, ленивой омутистой речкой, базарной площадью с запахом сена и мучных складов, придорожными часовнями и тихими лампадными огнями на зеленом кладбище.
В поле было пустынно и холодно. Ветер сгибал придорожные березы. По небесной пустыне летели журавли.
– А далеко, поди, журавль летит? – спросил Трифон.
– За тысячи верст.
– А ты не врешь?
– Зачем же мне врать-то, чудак ты этакий!
Трифон наморщил лоб, задумался… Вероятно, силился представить себе то огромное пространство, которое должны перелететь птицы.
– Даст же Господь такое разумение Своей твари! Без языка, без конпаса летят они тыщи верст и прилетают на место свое. По моему разумению, птица выходит умнее другого человека. Возьмем, к примеру, меня. Скажи мне: «Трифон, иди пешком в Москву…» Да я, ей-Богу, разов двадцать заблудился бы.
По дороге встретился лохматый мужик в солдатской шинели и с курицей под мышкой. Трифон остановил лошадь и спросил:
– Куда, борода, шагаешь?
– В Козьево, к свояку Кузьме Ивановичу, – хлюпнув носом, ответил путник.
– Зачем?
– В гости. Вчерась сказывали, что у Кузьмы Ивановича запой открылся. Иду проздравлять его. Вот и курицу ему несу. А вы куда?
– В город.
– Так, так…
Мужику хотелось еще кое-что спросить, но в это время закудахтала курица, и он махнул рукой.
Не успела телега отъехать и двух саженей, как позади раздался голос путника.
– Эй, братишки! Остановитесь!
– Что тебе?
– В деревню Козьево я правильно иду? – спросил мужик.
– Правильно. Ты что ж, впервой идешь, что ли, по этой дороге?
– Ходил, конечно, но сегодня я что-то в сумлений. Это, поди, со вчерашнего самогона у меня в кумполе муть и задумчивость. Извиняемся.
– Я же говорил вам, – заметил Трифон Тригорину, – что журавль умнее человека!
Тригорину захотелось узнать что-нибудь про свой родной город и особенно про отца Андрея, к которому ехал в гости.
– Поди, постарел теперь отец Анд рей-то? – спросил он Трифона.
– По земле ходить уже едва может, за небо цепляется… – Трифон посмотрел на высохший ольшаник и добавил: – Старый лес рушится, молодой растет…
Хотелось Трифону спросить и про Настю, но промолчал.
Проезжали мимо выжженного пожаром старого парка. На месте барского особняка с белыми колоннами чернело пепелище. А когда-то здесь гудели дубы, березы и липы. Из раскрытых окон доносились звуки рояля, и на балконе часто мелькало белое девичье платье.
– Сожгли! – сказал Трифон, указывая кнутовищем на выгоревший опустелый парк. – Во время пожара сгорела дочка баринова, барышня Нина Николаевна. В ту ночь, дело осенью было, замутившиеся души перестреляли всех собак на псарне и любимой бариновой лошади штыками
глаза выкололи…
На дорогу выбежала старая прихрамывающая собака. Она не залаяла, а только посмотрела на проезжающих тусклыми глазами.

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА «И только храм остался для нас единственным уголком Святой Руси, где чувствуешь себя пригретым и обласканным». Святая Русь: ее люди, ее церквушки, бескрайние поля, вековые леса; радость праздников, запах ладана, пасхальных куличей… Радость и грусть — жива ли Святая Русь? Та, которую помнит душа и которой взыскует душа. На этот вопрос отвечают герои В. Никифорова-Волгина, отвечают тихой любовью и глубокой верой. Книга «Воспоминания детства» предназначена для семейного чтения.
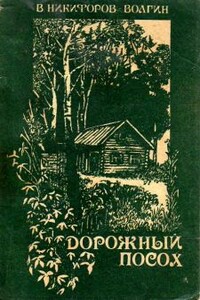
Василий Акимович Никифоров-Волгин (24 декабря 1900 (6 января 1901), деревня Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии — 14 декабря 1941, Вятка) — русский писатель.Родился в д. Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии в семье мастерового. Вскоре после рождения Василия семья переехала в Нарву. Не имея средств для окончания гимназии, Никифоров-Волгин в детстве и юности много занимался самообразованием, хорошо узнал русскую литературу. Его любимыми писателями были Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов. С. Есенин.В 1920 году Никифоров-Волгин стал одним из организаторов «Союза русской молодежи» в Нарве, устраивающим литературные вечера и концерты.

Рассказы Василия Никифорова-Волгина — любимое чтение православной семьи. Его книга — поистине народная книга! В настоящем сборнике все тексты выверены по первоизданиям, включены ранее неизвестные произведения. Рассказы расположены согласно литургическому году, в порядке следования праздников. Впервые представлены литературные оценки душеполезных рассказов писателя, приведена по существу полная библиография его сочинений. Книга украшена оригинальными рисунками.

Накануне летних каникул родители задумываются, что выбрать для детского православного чтения: как сделать чтение на отдыхе душеполезным? В этой книге собраны рассказы русских писателей о летних приключениях детей, пройдя через которые маленькие герои приобретают немалый духовный опыт. Это захватывающее чтение для всей семьи, ведь взрослые тоже были детьми и когда-то впервые открывали мир Божий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) - русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: "Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное - и вышла книга "В краю непуганых птиц", за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке".

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Короткий рассказ от автора «Зеркала для героя». Рассказ из жизни заводской спортивной команды велосипедных гонщиков. Важный разговор накануне городской командной гонки, семейная жизнь, мешающая спорту. Самый молодой член команды, но в то же время капитан маленького и дружного коллектива решает выиграть, несмотря на то, что дома у них бранятся жены, не пускают после сегодняшнего поражения тренироваться, а соседи подзуживают и что надо огород копать, и дочку в пионерский лагерь везти, и надо у домны стоять.

Эмоциональный настрой лирики Мандельштама преисполнен тем, что критики называли «душевной неуютностью». И акцентированная простота повседневных мелочей, из которых он выстраивал свою поэтическую реальность, лишь подчеркивает тоску и беспокойство незаурядного человека, которому выпало на долю жить в «перевернутом мире». В это издание вошли как хорошо знакомые, так и менее известные широкому кругу читателей стихи русского поэта. Оно включает прижизненные поэтические сборники автора («Камень», «Tristia», «Стихи 1921–1925»), стихи 1930–1937 годов, объединенные хронологически, а также стихотворения, не вошедшие в собрания. Помимо стихотворений, в книгу вошли автобиографическая проза и статьи: «Шум времени», «Путешествие в Армению», «Письмо о русской поэзии», «Литературная Москва» и др.

«Это старая история, которая вечно… Впрочем, я должен оговориться: она не только может быть „вечно… новою“, но и не может – я глубоко убежден в этом – даже повториться в наше время…».