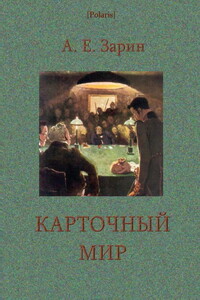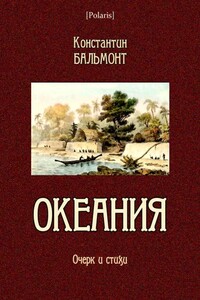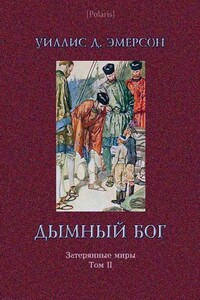Отходим с Насткой медленно навстречу скользящей по горизонту луне — близко придвинувшись друг к другу, и нет ненужных мыслей о других, могущих увидеть, потому что все понятно здесь, у ног деревьев, в слиянии с ночью, в восторженном служении Богу Земли.
Я целую полные губы, смотрю в ясное, круглое лицо с одним лишь сознанием молодости, упругости мускулов, жаждой жизни. И знаю, что мне нужна женщина, и женщина эта — Настка.
Там, в темной глубине моей души, хохочет кто-то грубо и радостно, и хохотом откликаются мне темные впадины леса.
Это хохочет леший.
Иван Бунин
ЖЕЛЕЗНАЯ ШЕРСТЬ
— Нет, я не инок, ряса моя и скуфья означают лишь то, что я грешный раб божий, странник, сушею и водами ходящий вот уже шестой десяток лет. Родом же я дальний, северный. Там Россия глухая, древняя, леса да болоты с озерами, селения редкие. Зверя много, птицы несть числа, филинов ушастых видишь — сидит в черной ели, пучит янтарное око. Есть носатый лось, есть прекрасный олень — плачем и зовом звенит в бору к своей подруге… Зимы снежные, долгие, перехожий волк под самые окна подходит. Летом же качается, шатается по лесам медведь широколапый, в дебрях леший свищет, аукает, на дудках играет; в ночи утопленницы туманом на озерах белеют, нагими лежат на брегах, соблажняя человека на любодеяние, ненасытый блуд; и есть немало несчастных, что токмо в сем блуде и упражняются, провождают с ними ночь, день же спят, в тресовицах пылают, оставя всякое иное житейское попечение… Несть ни единой силы в мире сильнее похоти — что у человека, что у гада, у зверя, у птицы, пуще же всего у медведя и у лешего!
Тот медведь у нас зовется Железная Шерсть, а леший — просто Лес. И женщин любят они, и тот и другой, до лютого лакомства. Пойдет женщина или даже невинная в бор за хворостом, за ягодой — глядишь, затяжелела: плачет и кается — меня, говорит, Лес осилил. А иная на медведя жалуется: повстречал-де Железная Шерсть и блуд со мной сотворил — могла ли от него спастись! Вижу, идет на меня, пала я ниц, а он надшел, обнюхал, — мол, не мертва ли? — завернул на мне свитку и исподнее, задавил меня… Только, правду сказать, нередко лукавят они: случается даже с отроковицами, что сами они прельщают его, падают наземь ничком и, падая, еще и обнажаются, как бы нечаянно. Да и то взять: трудно устоять женщине что перед медведем, что перед лешим, а что будет она оттого впоследствии времени кликуша, икотница, о том заране не думает. Медведь — он и зверь и не зверь, недаром верят у нас, что он может, да только не хочет говорить. Вот и поймешь, до чего женской душе прельстительно иметь такое страшное соитие! А про лешего и говорить нечего — тот еще страшней и сладострастнее. Я о нем ничего не могу утверждать, бог миловал видеть его, а которые видели, те говорят, будто он подобен по рубахе и портам и прочей наружности мужику-смолокуру, однако же кровь у него синяя, оттого и с лица темен, ногами мохнат и тени от себя не может иметь ни при солнце, ни при месяце; завидя на лесном пути прохожего, тот же час согнется весь и такого духу даст — векша не догонит! Не то при встрече с женщиной: он не токмо не боится ее, но, зная, что тут ее самое ужас и похоть берет, козлом пляшет к ней и берет ее с веселостью, с яростью: падет она наземь ничком, как и перед медведем, а он сбросит порты с лохматых ног, навалится с заду, щекочет обнаженную, гогочет, хрюкает и до того воспаляет ее, что она уж без сознания млеет под ним, — иные сами рассказывали…
Все сие я к себе клоню. Пошел я на весь свой век сирым странником по причине того несказанного бедствия, что постигло меня на самой заре моей. Женили меня родители на прекрасной девице из богатого и старинного крестьянского двора, которая была еще млаже меня и дивной прелести: личико прозрачное, первого снега белей, глаза лазоревые, как у святых отроковиц… Но вот, в первой же брачной ночи нашей, кинулась она от моих объятий под образа в спальной горнице, говоря мне: «Ужели дерзнешь взять мое тело под святой божницею и елейными лампадами? Я приняла венец с тобой не своей волею и не могу быть твоей супругою, зане должна удалиться в скит и монастырь, дабы принять другой венец, умереть для мира заживо, по жестоким грехам моим». Я отвечаю ей: видно, впала ты в безумие, какой же может быть жестокий грех на твоей душе в твоем невинном возрасте! Она же мне: «Про то одна матерь божия ведает, ей же дала я, покаявшись, обет быть чистою». И тогда я — пуще всего от ее сопротивления и подобных страшных слов, да еще под святынями — озверел столь необузданной страстью, что упился ею как раз на том месте, на полу, сколь ни противилась она своей слабой силою и мольбами и рыданием, и вспомнил лишь после того, что имел я ее невинности уже лишенную, не подумавши, однако, кем и как лишена она ее. Будучи во хмелю, в сей же час заснул крепким сном. Она же, в одном исподнем, убежала из спальной горницы в лес и там на своем брачном поясе повесилась. Когда же обрели ее там, то увидели: сидит на снегу у тонких босых ног ее, склонив голову, великий медведь. И, как тот олень, три дня и три ночи оглашал я потом леса окрест своим плачем и зовом, ее на земле уже не достигавшим.