Классический и неклассический идеалы рациональности - [8]
Здесь и заложены классические различения души и тела, сознания и материи, одушевленного и неодушевленного и т.п., и вполне логичным обобщением всей этой ситуации является декартов вывод о дуальном характере "субъект-объектной структуры", т.е. о несводимости в ее рамках двух "субстанций" - мыслящей и протяженной. Дуализм, фактически, означает, что если описание физики явлений организовано таким образом, что одним из первичных и независимых его понятий оказывается допущение определенных свойств наблюдения (например, трансцендентальной ^непрерывности сознания), если сама формулировка любой конкретной причинной связи во внешнем нам мире зависит от того, как увязан опыт универсального и однородного наблюдения ее проявлений по множеству точек пространства и времени, то этим же аппаратом причинности мы не можем объяснить (в качестве причинно вызываемых миром - в том числе и нашим телом, которое в этой структуре есть часть внешней действительности) процессы в нашем сознании, потому что сознание уже допущено - и допущено акаузально - в самой формулировке причинной связи. Поэтому язык наш должен быть двойственным, приводя мысли и сознательные состояния к мыслящей "субстанции", а материальные явления - к протяженной, строго устраняя термины одной из описания другой.
Таким образом, мы получили следующий, очень интересный результат. То, что Декарт называл "первичными качествами" как единственно объективными в человеческом отражающем аппарате (в отличие от "вторичных качеств"), и есть такие качественные состояния отражающих устройств, которые поддаются пространственной артикуляции в явлениях мира, континуально в них действуя, и которые ясно и отчетливо мыслимы как раз потому, что изнутри этих явлений мы максимально устранили тень, отбрасываемую какими-либо "душами" или одушевленными силами и их проекциями. Иными словами, именно в них мы расцепили первичную непроизвольную (и антропоморфную) слитость - слитость объективируемых в мире атрибутов вещей с их "чувствующе-испытующими" состояниями, проецирующими взгляд сидящего внутри них гомункулуса. Но это мы сделали в определенной структуре сознания (той, которую я выше назвал дуальной).
И это имеет простой смысл: использование данных и показаний ощущений из "чувствующего" звена цепи действия природы (где физическое каким-то таинственным и неизвестным нам образом превращается в ощущаемое, т.е. психическое) через осознаваемую сторону этих состояний (что позволяет нам не зависеть от указанного незнания, нейтрализовать его) означает, что в этой точке пересечения событий Вселенной и событий отражения мы имеем модели и их действие, означает, что мы моделируем возможные природные события и собственным материальным строением, развивая в нем артефактический элемент (вроде геометрического "образа" законоподобия твердого тела или же состояний приборно-измерительных приставок к нашим органам чувств), и добавлением к ним нелокального структурного элемента, реализующего эффект бесконечности. Поэтому речь идет о "явлениях" в логическом пространстве моделей, о непрерывных действиях (например, инерции), завязанных и на квазивещественные "прообразы" и на бесконечность, и от которых объективации непрерывным образом зависят. То, что есть "являющееся", есть таковое в логическом пространстве моделей, есть артикуляция действий мира, доступная наблюдению и непрерывной в нем развертке (но этим и амплифицированная). Это макроструктура эмпирического причинного опыта.
Но за конструктивное использование сознания всей этой деятельности (в моделях и т.д.), за расцепления спонтанно "одушевляющих" и проективных сращений именно в этой структуре сознания есть цена, которую мы платим. Если нет структуры, то мы ничего не можем сказать о том, какова Вселенная помимо и независимо от наших ощущений, а если она есть, то не все можем спросить и узнать. В том числе - не можем узнать ту часть действительно случившегося, которая ушла в качественные и индивидуальные интенсивности наших состояний, порожденных ощущениями, - так же, как цветов, запахов, звуков и т.д. и т.п. нет в составе физической картины мира, хотя их различительные показания обязательно используются в ее построении. Здесь имеется определенного рода логический (или герменевтический) круг. И дело, конечно, в том, что связность сознания оказалась элементарной (в то, что ниже ее, мы не можем пройти). Ее элементарность настигает нас и на в бесконечность уходящем конце конфигурации мысли, которой общие, универсальные значения привязаны к реальным объектам в точке пересечения. Эта привязка и уникальна, единственна, и не определена содержательно-предметно в полном виде, поскольку не существует алгоритмизируемого и непрерывного перехода от ее предметного состава к смыслу, к понимающей мысли. И, в силу непредметности такого элемента ее доопределения, ее нельзя "дожать" образом потенционального приближения к охвату всего, всех удаленных предметных обстоятельств, чтобы определить ее здесь, в точке. Иными словами, здесь действует дополнительная к содержанию связь целого, для артикуляции которой не годятся указания, заимствуемые из предметов опыта и их наблюдений. И она (с ее абсолютными элементами, с абсолютными чертами "индивида") принципиально невидима, т.е. высказывается сама через субъекта, но он ее высказать не может в том же предметном языке, в каком изображает понимаемые предметы знания.
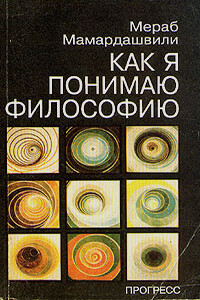
Сквозная тема работ М. К. Мамардашвили - феномен сознания, раскрытие духовных возможностей человека. М. К. Мамардашвили постоянно задавался вопросом - как человеку исполниться, пребыть, войти в историческое бытие. Составление и общая редакция Ю.П. Сенокосова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
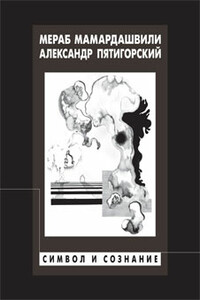
Эта книга представляет собой разговор двух философов. А когда два философа разговаривают, они не спорят и один не выигрывает, а другой не проигрывает. (Они могут оба выиграть или оба остаться в дураках. Но в данном случае это неясно, потому что никто не знает критериев.) Это два мышления, встретившиеся на пересечении двух путей — Декарта и Асанги — и бесконечно отражающиеся друг в друге (может быть, отсюда и посвящение «авторы — друг другу»).Впервые увидевшая свет в 1982 году в Иерусалиме книга М. К. Мамардашвили и A. M. Пятигорского «Символ и сознание» посвящена рассмотрению жизни сознания через символы.
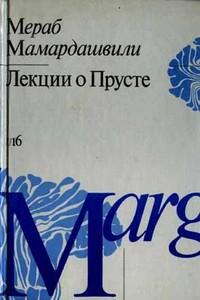
М.К. Мамардашвили — фигура, имеющая сегодня много поклонников; оставил заметный след в памяти коллег, которым довелось с ним общаться. Фигура тоже масштаба, что и А. А. Зиновьев, Б. А. Грушин и Г. П. Щедровицкий, с которыми его объединяли совместные философские проекты. "Лекции о Прусте" — любопытный образец философствующего литературоведения или, наоборот, философии, ищущей себя в жанре и языке литературы.
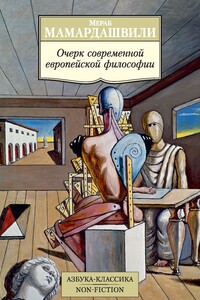
Лекции о современной европейской философии были прочитаны Мерабом Константиновичем Мамардашвили студентам ВГИКа в 1978–1979 гг. В доходчивой, увлекательной манере автор разбирает основные течения философской мысли двадцатого столетия, уделяя внимание работам Фрейда, Гуссерля, Хайдеггера, Сартра, Витгенштейна и других великих преобразователей принципов мышления. Настоящее издание является наиболее выверенным на сегодняшний день и рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся актуальными вопросами культуры.
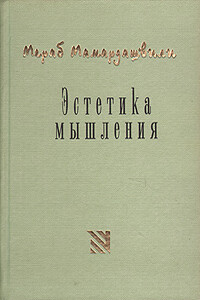
Издаваемый впервые, настоящий курс лекций, или бесед, как называл их сам автор, был прочитан в 1986/1987 учебном году в Тбилисском университете.После лекционных курсов о Декарте, Канте, Прусте, а также по античной и современной философии, это был фактически последний, итоговый курс М. К. Мамардашвили, посвященный теме мышления, обсуждая которую, он стремился показать своим слушателям, опираясь прежде всего на свой жизненный опыт, как человек мыслит и способен ли он в принципе подумать то, чем он мыслит.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.