Казюкас - [6]
Он огорченно засопел, засыпая. Так что отбой, сказал он в спину Акимову, уходящему по ночной тропе к своим островам, дворцам, гаремам, туда, где все это есть и будет у каждого стоящего и нестоящего, а сам остался стоять на седой, светлой на фоне ночного неба скале, поблескивающей в лунном свете сколами кварца. В небе горело девять лун, в которых легко угадывалась Дуся, а сам он стоял на скале, вдыхая запахи вереска и полыни.
На другой день — это была суббота — встали поздно, около десяти, к одиннадцати позавтракали и поехали троллейбусом на Антоколь: накануне, рассказывая о польском барокко, Акимов пообещал барышням костел Петра и Павла. За ночь сырость поела снег, в голубом небе плескался ветер, аккуратные старушки в белых платочках брели от костела им навстречу: служба кончилась, в храме было надышано и пусто. Девицы вошли под своды и растерянно замерли, словно на них набросили свадебную фату: щедрая, белоснежная с позолотой кружевная лепнина переполняла храм, дышала и пузырилась, как выпирающая из стиральной машины взбитая горка пены.
Мать честная, восхитился Акимов, давненько, года три, наверное, не заглядывавший сюда, и невольно возвел очи горе, к парящему в скрещении солнечных лучей куполу. Дуся с Ксюшкой прошли между рядами скамеек и стали рядом. Купол венчал их, всех троих, таких маленьких сверху, так показалось Акимову.
— А это что? — шепнула Дуся, взглядом указывая на серебряную раку посреди алтаря, украшенную живыми цветами.
— А это, — он с удовольствием взглянул на ее серьезное, взволнованное личико, — а это, проше пани, есть святые мощи нашего Казимира, небесного патрона Литвы, в честь которого ярмарка.
— Так он что, действительно был, ваш Казюкас? А я думала, он какой-нибудь такой, легендарный.
— Вполне легендарный, но — был. Правда, недолго. Вот, тут написано: в тысяча четыреста пятьдесят шестом родился, в восемьдесят четвертом почил в Бозе. Неполных двадцати восьми лет, как Лермонтов.
Они пошли к выходу, подгоняемые звонким дребезжанием ведерных дужек, — две пожилые польки протирали мраморный пол — и в левом нефе наткнулись на Таню, задумчиво стоящую перед громадным войсковым барабаном магната и воеводы Паца. „А это что?“ — спросила Ксюшка. „Это Таня“, — сказал Акимов. Про барабан он ничего не знал, кроме слова „литавры“. Штука была страшная, заскорузлая, толстокожая, тотчас вспомнились слоновьи бивни перед Острабрамской иконой и знакомо засосало под ложечкой: от барабана, должно быть, веяло в свое время потом, кровью и степью, а теперь ничем не веяло, только тлом, умершей вещью.
— Постучим? — предложила Таня.
— Давай! — загорелась Ксюшка; Акимов зажался и сказал, что, может, не надо.
— По разику, — уточнила Дуся.
— Без меня, — предупредил он, ускользая на выход. За его спиной девицы по разику стукнули. Звук был неживой, дряблый.
— А что с ним случилось, почему он так мало жил? — спросила Дуся, когда они вышли за ограду и пешком через Жирмунский мост побрели к рынку. По Вилии плыли круглые льдины-оладушки с сахарными белоснежными кромками, ветер рыскал по берегу, как невыгулянный пес, ошалевший от запахов мокрой, грязной, свалявшейся бурой шкуры земли, встречные граждане тащили новенькие корзины, рамы, бочонки, основательно запасаясь для продолжения жизни, ну и вербы, конечно. Сталкиваясь, льдины под мостом шипели и наползали одна на другую, в долине реки стоял ровный шуршащий шорох, и от этого шороха, если не смотреть вниз, казалось, что река ползет и шевелится…
Шалея, Акимов рассказывал о Казюкасе все, что знал, даже несколько более. Его Казюкас был набожным, неловким юношей, чтившим книжную премудрость выше житейской. И он обладал великим даром любви — той веселой, душевной любви ко всему живому, которую древние греки отличали от плотской и называли агапе — но земной любви не познал и был одинок, как ни один человек в княжестве. Он отвергал насилие, хотя, по факту рождения, был одним из его символов, избегал политики, стремился жить в мире с ближними и не желал им того, чего не желал себе — невыносимого для книгочея бремени власти, богатства, знатности… За глаза его так и звали — Казюкас, словно был он не королевич из рода Ягеллонов, а какой-нибудь пастушок, болезный. И он угас, заболев скоротечной чахоткой, которую современная медицина считает одной из форм аллергии на жизнь, — угас, избранник агапе, ушел прямо на небеса. И стал символом Литвы, отказавшей верховную власть польской Короне.
Дуся шла рядом; рассказывая, он мог следить за ее реакцией, видеть ее утонченный профиль, заглядывать в ее личико не украдкой, а по праву — она сама спросила его о Казюкасе, и он не мог, при всем уважении к ней, ограничиться теми двумя-тремя фактами, которые смутно помнил. И он успел полюбить своего Казюкаса, пока дарил его Дусе.
— Агапе на канапе, — глядя на них, насмешливо срифмовала Таня.
— А вот и неправильно, ударение на втором слоге: агапе.
— Это уже детали, — отмахнулась она, явно забавляясь его взволнованностью. — Ты ко мне несправедлив, Акимов.
Он соображал, что сказать, пока они не расхохотались.
Ну и ладно.
Они подошли к рынку с тыльной, непарадной стороны — народ выпирал за ограду, как разбухшее тесто, — условились встретиться на том же месте в случае, если потеряют друг друга, и сходу ввинтились в толпу. Акимов хватился Ксюшки, когда приперло, но та уже скрылась из виду вместе с Дусей и кричала откуда-то: „Папа, Таня, мы здесь!“ — он рванул на голос, работая локтями и шагая то по ногам, то по лужам, Таня следовала за ним в кильватере; наконец настиг, вырвал Ксюшку из Дусиных рук, велев держаться его — тут и горловину ворот проскочили, стало полегче. Их вынесло на отшиб площади, к свежесколоченной сцене, на которой, азартно топая клумпами, наяривали литовскую польку какие-то полупрофессиональные поселяне и поселянки в национальных костюмах, в соломенных шляпах и париках типа „ах, мои янтарные косы“, — означало сие, надо полагать, смычку партии и народа, официальное признание властями народного праздника, который в прежние, доперестроечные годы прекрасно обходился без их признания, стало быть, без ансамбля. Впрочем, гармоника со скрипкой ярмарке не помеха, урезонил себя Акимов; не клумпы его раздражали, а власти. Тут же, сбоку от сцены, какой-то гениальный кооператор поставил трейлер, оборудованный под буфет, даже с СВЧ-печкой — во голова! — и лихо, играючи срубал башли на кофе и бутербродах; согревшись горячим кофе, поплыли дальше. Под поросячье Ксюшкино верещание миновали живой ряд с котятами и щенками, попугайчиками, хомяками, свинками, далее — монопольный ряд аквариумистов, серьезных красномордых мужчин, пасущих невольничьи стада золотых рыбок (дело, надо думать, нешуточное, на то намекала и кровяная, живая вермишель мотыля), далее — оборотистые прапорщики-отставники вперемежку с цыганами, алкоголиками, ушлым трущобным людом: ножи с наборными ручками, наборные пластмассовые браслеты для часов, трубки и пепельницы с назойливой темой рогатого-бородатого, книги — Белинский, Гоголь, Дрюон, Кочетов; гипсовые кошки-копилки, хрюшки-копилки, мопсы, психеи, лебедя, писунчики, предназначенные висеть на дверях туалетов — поганенькие такие мальчишки, — курские водяные свистки-соловушки, девятый вал, утро в сосновом бору, бессмертные деревянные орлуши с крыльями, ворованная сантехника б/у, подсвечники, бра — бры — и, конечно же, облупленные коньки-дутыши, лет двадцать пролежавшие на чердаке. Акимов, пьянея, брел по рядам, по разливанному морю ярмарочных, лубочных красот, вброд-по-колено переходя это чужое/родное море базарной эстетики, синее море со щуками и лебедями, срисованное с дешевых ковриков его детства, и знакомый с детства базарный бесшабашный азарт бил по мозгам газированной кисло-сладкой отрыжкой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
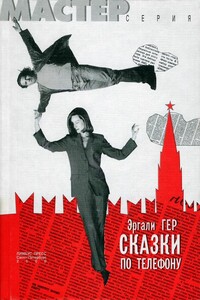
Впервые имя Эргали Гера широко прозвучало в конце восьмидесятых, когда в рижском журнале «Родник» (пожалуй, самом интересном журнале тех лет) был опубликован его рассказ «Электрическая Лиза». Потом был «Казюкас» в «Знамени», получивший премию как лучший рассказ года. И вот наконец увидела свет первая книга автора. Рассказы, дополняющие эту книгу, остроумны, динамичны, эротичны и пронзительны одновременно.В тексте сохранена пунктуация автора.
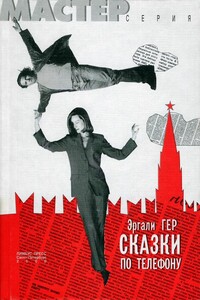
Впервые имя Эргали Гера широко прозвучало в конце восьмидесятых, когда в рижском журнале «Родник» (пожалуй, самом интересном журнале тех лет) был опубликован его рассказ «Электрическая Лиза». Потом был «Казюкас» в «Знамени», получивший премию как лучший рассказ года. И вот наконец увидела свет первая книга автора. Рассказы, дополняющие эту книгу, остроумны, динамичны, эротичны и пронзительны одновременно.В тексте сохранена пунктуация автора.

Впервые имя Эргали Гера широко прозвучало в конце восьмидесятых, когда в рижском журнале «Родник» (пожалуй, самом интересном журнале тех лет) был опубликован его рассказ «Электрическая Лиза». Потом был «Казюкас» в «Знамени», получивший премию как лучший рассказ года. И вот наконец увидела свет первая книга автора. Рассказы, дополняющие эту книгу, остроумны, динамичны, эротичны и пронзительны одновременно.В тексте сохранена пунктуация автора.

Впервые имя Эргали Гера широко прозвучало в конце восьмидесятых, когда в рижском журнале «Родник» (пожалуй, самом интересном журнале тех лет) был опубликован его рассказ «Электрическая Лиза». Потом был «Казюкас» в «Знамени», получивший премию как лучший рассказ года. И вот наконец увидела свет первая книга автора. Рассказы, дополняющие эту книгу, остроумны, динамичны, эротичны и пронзительны одновременно.В тексте сохранена пунктуация автора.

Шорт-лист премии Белкина за 2009-ый год.Об авторе: Родился в Москве. Окончил Литинститут (1982). Работал наборщиком в типографии (1972–75), дворником (1977–79), редактором в журнале «Вильнюс» (1982–88). В 1988 возглавил Русский культурный центр в Вильнюсе. С 1992 живет в Москве. (http://magazines.russ.ru)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.