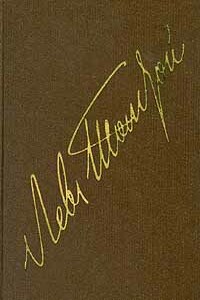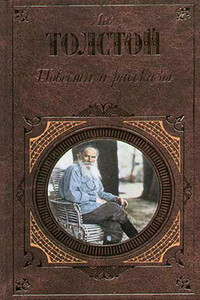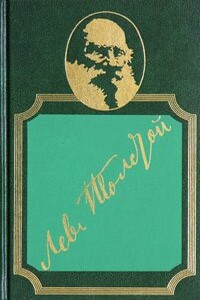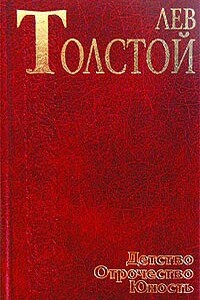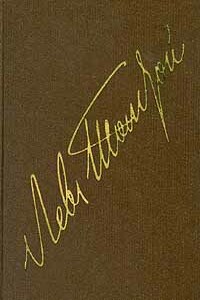— Это казаки баловались, — отвечал Ерошка.
— Как казаки? — спросил Оленин.
— Да так! Пили. Ванька Ситкин, казак был, разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил.
— Что ж, больно было? — спросил Оленин. — Ванюша, скоро ли? — прибавил он.
— Эх! Куда спешишь! Дай расскажу… Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю; ты ведь меня убил, братец мой. А? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь.
— Что ж, больно было? — опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа.
— Дай докажу. Ведро поставил. Выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак и говорит: «Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф сладкой, а то мы тебя засудим». Притащили еще. Дули, дули…
— Да что ж, больно ли было тебе? — опять спросил Оленин.
— Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак.
— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.
— Разве я тебе говорю, что больно. Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало.
— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.
— Зажило, да пулька все тут. Вот пощупай. — И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.
— Вишь ты, так и катается, — говорил он, видимо утешаясь этою пулькой, как игрушкой. — Вот к заду перекатилась.
— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.
— А Бог его знает! Дохтура нет. Поехали.
— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.
— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.
— Ну, полно вздор говорить, — сказал Оленин. — Я лучше из штаба лекаря пришлю.
— Вздор! — передразнил старик. — Дурак, дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки и чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна всё фальчь.
Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.
— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.
— Да лежит, как мертвый. Не ест, не пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет, — ничего. А то жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в голове стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке всё такие, вот такие маленькие барабанщики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он мирщился, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю все: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя? Ты покажь да ее разбей. А я говорю: у меня и нет ее. А сам ее в избушке в сеть запрятал; знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать… Так что бишь я говорил, — продолжал он, — ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всё на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, все на бугор ездил, как-то чудно холком бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся. То-то глупость! Идут, сердечные, все в куче да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой. — Что бы в стороны разойтись да по одному. Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.
— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся, — сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням. Старик сидел на полу и не вставал.
— Так разве прощаются? Дурак! дурак! — заговорил он. — Эхма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. Нелюбимый ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется:
Мудрено, родимый братец,
На чужой сторонке жить!
Так-то и ты.
— Ну, прощай, — сказал опять Оленин.
Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел идти.
— Мурло-то, мурло-то давай сюда.
Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.
— Я тебя люблю, прощай!
Оленин сел в телегу.