Кавказская война. Том 1. От древнейших времен до Ермолова - [5]
С объявлением этой дагестанской индульгенции последовал шамхальский приказ: взамен военных игр, сопровождающих празднование байрама, произвести внезапное нападение на отступающих русских на первом же привале и вырезать их до ночи. Случилось, что в этот же день шамхал праздновал свой брак с дочерью аварского хана. К свадьбе, по обычаю, приготовлены были сотни тулуков бузы, которой надлежало угостить всю двадцатитысячную рать, стянувшуюся к Таркам на выручку шамхала. Вся эта сила, разделенная на несколько частей, двинулась укромными местами вслед за русскими и неожиданно ринулась на них со всех сторон, когда они, перейдя речку Озень, расположились нестройно на привал и беззаботно варили кашу. Вдохновленные хмелем свадебной бузы, неприятельские наездники врезались в русские ряды, не дав им устроиться и воспользоваться преимуществом, которое давал им «огненный бой». Смятение увеличивали все новые и новые неприятельские толпы, стремившиеся одна за другой с длинными кинжалами в руках. Бой был рукопашный; русские сбивались в кучу, не сдавались на делаемые им предложения и резались отчаянно, пока не падал последний человек, боясь, – как говорит летописец, – не смерти, а плена". Костековское предание, принося дань удивления их твердости, между прочим рассказывает, что воевода Бутурлин, седобородый богатырь, видя неминуемую гибель русской рати, собственноручно изрубил шамхалова аманата в куски, но то был подставной аманат, совсем не шамхалов сын, а какой-то преступник, приговоренный к виселице и только этим подлогом купивший себе помилование. Рассказ вполне вероятный, потому что такие же подлоги с аманатами совершались часто и в ближайшее к нам время.
Почти все московское войско и оба воеводы, Бутурлин и Плещеев, полегли в этой адской свалке, продолжавшейся благодаря русской стойкости несколько страшных часов. Но и дагестанцы понесли весьма чувствительные потери убитыми, в числе которых был и сам шамхал Султан-Мут, прославившийся военными подвигами в походах на Грузию. Бесполезно прибавлять, что покинутые в шамхальской столице несчастные больные и раненые русские погибли мучительной смертью и терзаемые по улицам не только мужчинами, но даже малыми детьми и старыми женщинами.
Так закончился этот несчастный, хотя и славный для побежденных поход, стоивший нам от шести до семи тысяч воинов и на целые сто восемнадцать лет изгладивший все следы российского пребывания в землях собственно Дагестана.
На Руси между тем наступила смутная пора самозванцев, и русским уже некогда было думать об отмщении шамхальцам за кровь Бутурлина и за обиду Московскому царству. Даже казацкая вольница, тянувшаяся в ту пору к самозванцам и не встречавшая уже в московском царе грозного карателя, от гнева которого нужно было подчас уходить, забыла о Кавказе, и только те казацкие поселения, которые возникли там прежде, стойко держались не только на Тереке, но даже за Тереком, откуда никакие силы чеченцев и кумыков не могли их выбить. Так продолжалось дело почти до Петра Великого. Существует, впрочем, факт, говорящий о том, что понизовая вольница не совсем еще забыла проторенную дорожку в дагестанские горы и в эти времена. Есть предание, что в царствование Алексея Михайловича, около 1769 года, знаменитый волжский атаман Стенька Разин приплыл на стругах к берегам Дагестана и произвел такой погром в шамхальских владениях, который живет и поныне в памяти прибрежных жителей. Пытался Степан Тимофевич добраться тогда до самого шамхала, засевшего в крепких Тарках, и пробовал даже брать его приступом – да неудачно: тарковцы отбились. Три дня грабил атаман окрестности города, а затем сел на струги и уплыл громить Персидское царство.
Собственно же русская государственная политика на Кавказе была надолго парализована смутным временем. При первых Романовых Московское государство не стремилось к господству на Кавказе, даже сношения с единоверной Грузией, служившей постоянным поводом к кавказским столкновениям, приняли совершенно иной характер. Напрасно грузинский царь Теймураз слал послов за послами в Московскую землю. Царь Михаил Федорович, занятый строением своего государства, не хотел мешаться в чужие дела, а Грузия между тем стояла на краю гибели. Великий шах Аббас – этот Лев Ирана, как называют его летописи, – вторгся в Кахети, и цветущая страна обращена была в развалины; он залил ее кровью и спалил ее города, села, монастыри и церкви. Христианство было поругано. Персияне, заставая в церквах проповедников Христа, сжигали их тысячами. Царь должен был бежать в Имеретию. Не скоро оправилась Грузия от этого погрома, а когда оправилась, и царь Теймураз снова овладел престолом, взоры ее опять обратились к единоверной России. Московским царством правил в то время уже Алексей Михайлович. Занятый польской войной, царь не мог удовлетворить желаниям грузинских послов, просивших помощи. Тогда Теймураз решился сам предпринять путешествие и прибыть в Москву, где его приняли радушно, но в помощи ему опять отказали.
Так говорит нам история. Существует, однако, легенда, созданная грузинским народом, которая утверждает иное. Предание это рассказывает, что когда шах Аббас, повелитель Ирана, в начале XVII века вломился в Грузию и завладел всей Кахетией и большей частью Картли, тогда на помощь грузинскому царю, укрывшемуся с остатками разбитых войск на крепкой позиции около Мцхета, явилась русская подмога с берегов Днепра и Терека. Легенда приурочивает это событие ко времени царствования у нас Алексея Михайловича и придает стрелецкому воеводе и казацкому атаману такие характерные, чисто народные русские черты, которые переносят вас совершенно в иной мир, нежели Грузия, и заставляют верить в действительность того, что создано, быть может, только народной фантазией. Так, во время последний битвы, освободившей Грузию от нашествия иранского завоевателя, воевода обращается к стрельцам со словами: «Ребята! Ляжем костьми на месте и не положим бесславия на русское имя по заветному слову наших отцов: мертвые срама не имут». Атаман же говорит своему товариществу: «Утекать, братцы, некуда – сами видите. До Днепра далеко, да там же нет у нас ни жен, ни детей – плакать будет некому. Так уж коли не то, так сложим головы добрым порядком и не покажем бусурманам прорех и заплат на спинах казацких».
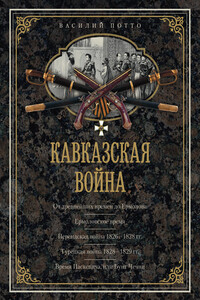
Фундаментальный труд выдающегося военного историка, генерала русской армии В. А. Потто охватывает период Кавказской войны с начала XVI века по 1831 год.Многие годы автор разыскивал и собирал разрозненные документы и материалы с одной целью – извлечь из забвения и связать в одно стройное повествование драматические и героические события, которые, развиваясь и усиливаясь, определили совершенно особую роль Кавказской войны в нашей истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
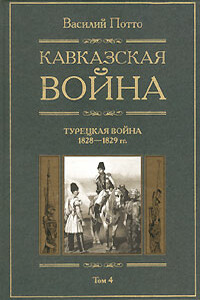
Фундаментальный труд выдающегося военного историка, генерала русской армии В. А. Потто охватывает период Кавказской войны с начала XVI века по 1831год.Многие годы в разных местах автор собирал разрозненные документы материалы с одной целью – извлечь из забвения и связать в одно стройное повествование драматические и героические события, которые, развиваясь и усиливаясь, определили совершенно особую роль Кавказкой войны в нашей истории.В четвертый том вошли описания событий Турецкой войны 1828-1829 годов.
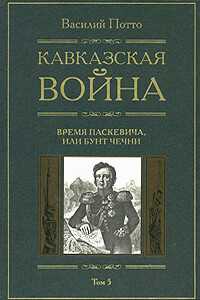
Фундаментальный труд выдающегося военного историка, генерала русской армии В. А. Потто охватывает период Кавказской войны с начала XVI века по 1831год.Многие годы в разных местах автор собирал разрозненные документы материалы с одной целью – извлечь из забвения и связать в одно стройное повествование драматические и героические события, которые, развиваясь и усиливаясь, определили совершенно особую роль Кавказкой войны в нашей истории.Пятый том заключает описания событий периода 1826-1831 годов.
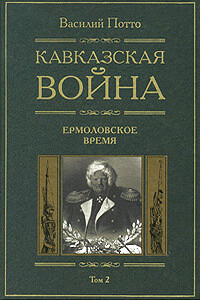
Фундаментальный труд выдающегося военного историка, генерала русской армии В. А. Потто охватывает период Кавказской войны с начала XVI века по 1831год.Многие годы в разных местах автор собирал разрозненные документы материалы с одной целью – извлечь из забвения и связать в одно стройное повествование драматические и героические события, которые, развиваясь и усиливаясь, определили совершенно особую роль Кавказкой войны в нашей истории.Во второй том вошли события Ермоловского времени на Кавказе.
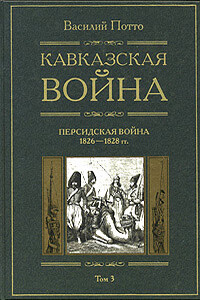
Фундаментальный труд выдающегося военного историка, генерала русской армии В. А. Потто охватывает период Кавказской войны с начала XVI века по 1831год.Многие годы в разных местах автор собирал разрозненные документы материалы с одной целью – извлечь из забвения и связать в одно стройное повествование драматические и героические события, которые, развиваясь и усиливаясь, определили совершенно особую роль Кавказкой войны в нашей истории.В третий том вошли события Персидской войны 1826-1828 годов.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.