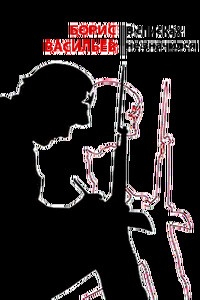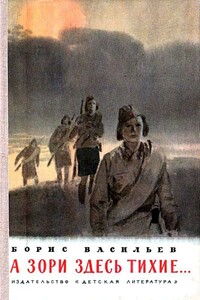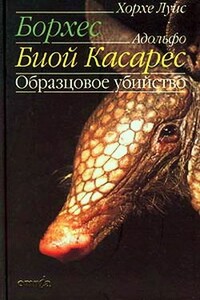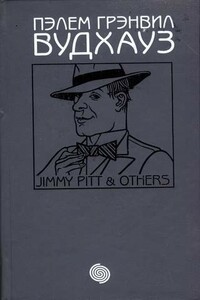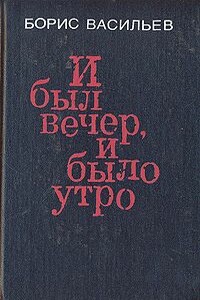Я писал современные романы да публицистические статьи, но однажды ощутил вдруг, что черный век России подходит к концу. И тогда впервые подумал о том, что если XIX, Золотой век России, был благословлен рождением Пушкина, то XX — Ходынкой, когда погибло свыше тысячи человек.
А тетя моей матушки Надежда Алексеевна чудом уцелела в этой озверелой толпе и давке, о чем я походя упомянул в романе «Дом, который построил Дед». Ради этого эпизода уже был собран большой материал, я подобрал еще кое-что и написал третий роман о роде смоленских дворян Олексиных «Утоли моя печали». Его опубликовало издательство «Вагриус», роман был отмечен русско-итальянской литературной премией «Москва-Пенне», а весь тираж быстро исчез с прилавков.
Только тогда я сообразил, что у меня получилась некая «Сага об Олексиных». Серия романов о столетней истории одной семьи, а точнее — столетняя история возникновения, торжества и гибели русской дворянской интеллигенции. В ней не хватало только начала, первого тома «Саги». Я вспомнил о совете Натана Эйдельмана, стал звонить пушкинистам, подбирать материал и… и бороться с собственной робостью, поскольку одним из ее героев должен был стать Александр Сергеевич Пушкин. И все время, днем и ночью думал, каким же был приятель Пушкина, мой прапрадед поручик Сашка Алексеев…
И вот тут… мне приснилось название: «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт» — и я представил себе своего далекого предка живым. А в первом томе русской «Военной Энциклопедии» нашел портрет его отца, героя Отечественной войны 1812 года генерала-майора Ильи Ивановича Алексеева. Отца Александра Алексеева и, стало быть, моего пра-пра-пра…
Я доволен своей работой — столетней историей моего рода. Не потому, что «моего», а потому, что, как мне кажется, это — самый значительный труд всей моей тридцатилетней писательской деятельности. Я отдавал должное не предкам своим, а лучшим представителям великой русской интеллигенции, которые и определили место России в истории мировой культуры. Новое время поет новые песни, но и из старых песен слова не выбросишь. Четыре романа «Столетней истории русского дворянского рода Олексиных» в пяти томах, по сути, превратились в историю отваги, чести и достоинства верных сынов и дочерей навеки канувшей в Лету России. Ее более нет и она никогда не возродится, но у потомков должен быть пример для подражания предкам своим.
Борис Васильев
Видит Бог, эти записки существовали. Мама мне говорила о них, да и я что-то припоминаю по первым ощущениям детства. Пожелтевшие страницы старой-престарой бумаги, черные, местами выцветшие чернила, чужой, странный, почти нечитаемый почерк. В Смоленске, помню… а может, то было в нашем Высоком, у деда Ивана Ивановича?.. Не удержала этого память моя, мала была еще слишком. Во всяком случае ни в Москве, ни тем паче в Воронеже этих очень ломких бумаг я уже припомнить не могу. Сестра предположила, что, возможно, они так и остались тогда то ли в Высоком, то ли в Смоленске. Но по тем местам прокатилась война, и все наши семейные архивы пропали в ее огне.
А мама мне, помнится, что-то читала. То, что касалось встреч ее прадеда с Пушкиным. И что-то осело в памяти. Скорее, стиль, способ прапрадедовского видения, мышления и мироощущения, отразившиеся в записи. Это-то тогда меня и поразило: ощущения свои я, слава Богу, помню хорошо.
Великие войны и смутные времена — единственные провалы в историях народов, в яростной беспощадности которых горят даже рукописи. А ведь такой человек существовал на самом деле. Реально существовал: мне о нем говорил Натан Эйдельман, прочитав мой роман «Были и небыли», в котором рассказывалось о судьбе моих дедов — многочисленной дворянской семьи Олексиных.
— Почему бы вам не подумать о своем прапрадеде? С ним приятельствовал Александр Сергеевич, доверивший ему на хранение запрещенные цензурой строфы из «Андрея Шенье». Любопытный был поручик, пушкинисты вам о нем расскажут.
Это был не просто добрый знакомец Александра Сергеевича, а мой родной прапрадед. Если бы не он, то и меня не было бы на свете: генетическая цепочка не признает разрывов и замен. А коли так, то я обладаю нравственным и моральным правом рассказать о вас, мой дорогой предок, все, что смогу. С искренней любовью и горячей благодарностью потомка…
«Записки» предварялись — вот это помню ясно, зрительно помню — написанными явно позднее (иной цвет чернил, почему я и запомнил) строками, обращенными к будущему читателю. К сыну, а возможно, и к внуку — далее автор, по всей вероятности, в поросль свою не заглядывал. Однако следует учитывать, что эти записки были прежде всего семейным сочинением, изначально не претендующим на широкую читательскую аудиторию. Вероятно, в старости предок перечитал написанное и, ни слова в нем не изменив (что он особо подчеркивает), счел все же необходимым кое о чем предуведомить своих потомков, почему я и позволил себе назвать это обращение «Предуведомлением». Название и неточное, и какое-то казенное, канцелярское, что ли, но пред нами — документ, по самому жанру своему допускающий некую нетворческую, если позволительно выразиться так, терминологию.