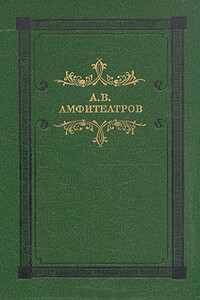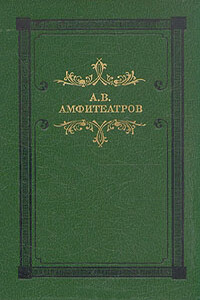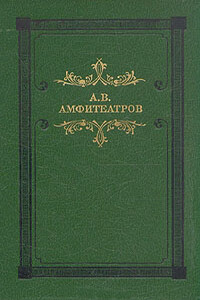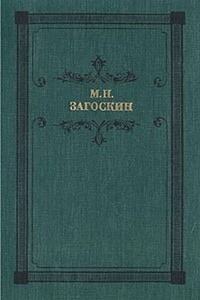Тутолмин разделся и решительно развернул «Отечественные записки». Но дело не пошло на лад: интересная статья как-то туго и тяжело влезала в его голову. Маятник, равномерно стучавший в соседней комнате, ужасно мешал ему. Он закрыл уши и снова начал страницу. Но мысли его улетали далеко от экономических данных, представляемых статьей, и сердце беспокойно ныло. Тогда он с досадой бросил книгу и порывисто заходил по комнате. Злоба душила его. Он с каким-то едким наслаждением представлял себе красивое лицо графа, повергнутого в недоумение. И все в этом графе возбуждало его ненависть: и манеры, и мягкая любезность, и меланхолическое очертание губ… И он преувеличивал в своем воображении эти особенности, доводил их до карикатуры, до шаржа. Он представлял графа в виде паршивенького петиметра, в виде приторного пастушка из французских пасторалей времен Людовика XV… Но от этих представлений он круто и с какой-то стремительной поспешностью перешел к Варе. И досталось же несчастной!.. Он громоздил на ее бедную голову целую лавину обвинений. И ее изысканный костюм, и ее видимое благоволение к графу, и ее смущение при появлении Тутолмина — все ставилось ей в счет. Он не знал, как заклеймить ее поведение… Нелестные наименования ежеминутно срывались с его языка и необузданно будили мертвую тишину уютной комнатки. Он не мог простить себе те разговоры, которые вел с нею, ту «идиотскую» растрату времени, которую допустил ради поучения этой «либералки»… О, теперь он отлично видит, что дело заключалось в романических изнываниях. Все остальное служило лишь фоном для этих изнываний… «Прекрасно! — в ярости восклицал Илья Петрович. — Превосходно! В высшей даже степени великолепно, почтеннейший господин Тутолмин!» — и он с азартом обрушивался на свою особу. Не было того яда, который он не излил бы на себя. Не существовало таких унизительных сравнений, которыми он не воспользовался бы при этой безжалостной расправе. Не находилось таких презрительных прозваний, которыми он не обременил бы «свое ничтожество». С какой-то ненасытимой жадностью он переворачивал свою память и выкладывал ее содержимое для пущего уязвления «своих поползновений». И Онегин-то, и Печорин, и Рудин, и Агарин — проворно вылезали оттуда и с коварными гримасами поспешали на прокурорскую трибуну, откуда стыдили и дразнили Илью Петровича сходством своих похождений с его отношениями к Варе… Голова его пылала. По спине ходили иглы.
Он бросился на постель и уткнулся лицом в подушку. И долго ни одной связной мысли не появлялось в его горячей голове. Он только чувствовал какое-то бессмысленное и беспокойное угнетение. Сердце его ныло с тупою болью… Но мало-помалу волнение утихало; злоба исчезала, обессиленная наплывом тяжелой усталости… И он ясно вообразил Варю в тот миг, когда она подбежала к нему в передней. Тогда что-то вроде укора совести шевельнулось в нем. Он стал рассуждать сухо и правильно. Правда, он не обвинял себя; он не брал назад презрительных наименований, данных им девушке во время раздражения… Но в нем выросло и стало во весь рост сознание глубокой и страстной любви к ней. «Это факт, — произнес он громко, — и с ним надо считаться… Но нужно вырвать ее из этой экзотической гнили; нужно решительно и раз навсегда вывесть ее на прямую дорогу…» — и он, почти успокоенный, встал и твердой рукою написал ей письмо.
«Варвара Алексеевна! — гласило письмо. — Я не признаю шуток в серьезных вещах. Наши с вами отношения я считаю вещью серьезной. Играть в нервы, а тем паче раздражать чью-либо экспансивность, моего согласия нет. А так как наши отношения в вашем салоне именно таковы, что могут только потворствовать этому раздражению и этой игре, и так как по этому пути мы, может быть, зашли слишком уже далеко, то, я думаю, было бы уместно: игру прекратить и заявиться перед разными салонными пряниками в подлинном своем виде. Для этого благоволите разрешить мне говорить вам „ты“ уже не под сурдинку, а как и подобает взрослым людям — громко и ясно. Конечно, есть и иной выход: я бы мог сделать вам так называемое „предложение“, а вы — принять его. Но дело в том, что я считаю очень разумным наше прежнее решение: не сходиться до тех пор, пока вы не взглянете жизни прямо в глаза, то есть не изведаете ее нужд и ее прозы, а потому и „обычный“ выход нахожу неподходящим. Жду ответа.
Илья Тутолмин».
Разыскав Алистрата и отправив с ним письмо, Илья Петрович совершенно успокоился. Правда, он все-таки не взялся за статью в «Отечественных записках», но улегся на кровать и начал мечтать. Он воображал себе Варю без всяких «барских свойств». Умная, красивая, развитая, в простеньком темном платьице — она сидела в кругу его друзей и, дельно аргументируя, отстаивала его заветные мысли о мировом значении русских бытовых форм и об устойчивости крестьянских общинных идеалов… Дальше она представала ему в заманчивой простоте деревенской обстановки, среди ребятишек и баб, ведущих нескончаемую беседу… И сердце его теплилось тихо и спокойно.
Вошел Алистрат. Тутолмин протянул руку… В конце его собственного письма стояло смутно и неразборчиво: