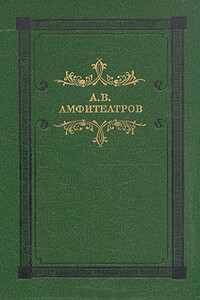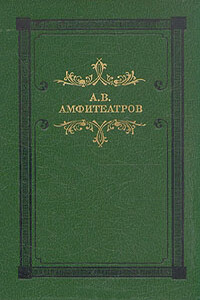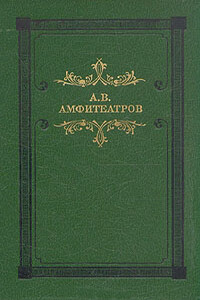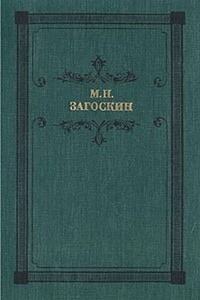Он замолчал.
— И все? — спросила Варя.
— И все, и нет, — вымолвил граф. — Я уже более не видал ее. Я бегал по Женеве, искал, расспрашивал — все было напрасно. Прошел год. Я торчал в Мадриде в качестве «причисленного»… И одно время узнал о ее свадьбе. Жених был молод, богат, имел положение, связи… Казалось, все окончилось благополучно. И затем все кануло как в воду. Знаешь, точно камень: ударится, взволнует светлую поверхность… И снова тихо, и только далеко-далеко отраженная волна плеснется в сонный берег и рассыплется звонкими брызгами.
— И все?
— О, нет. Я тебе не буду рассказывать, как я развенчивал мою царицу, как воображал ее среди пеленок, в беседе с поваром, в разговорах с прачкой… Об этом тебе расскажет Гейне. Но не особенно давно я узнал о ней: графиня с злорадной улыбкой подала мне газету. «Вот до чего доводит эксцентричность, граф», — произнесла она, видимо подразумевая недуги твоего покорнейшого слуги… Бедная maman, она называет это эксцентричностью! Но я не спорил с ней, — я ведь не могу с ней спорить, — я заболел, долго жил в Ницце, долго… Но это, впрочем, неинтересно. Она промчалась по нашему беспутному небосклону ослепительной звездой и трагически угасла.
— Но за что же? — в ужасе спросила Варя.
— За «эксцентричность», моя прелесть, — горько сказал граф и спустя немного продолжал: — Потом я узнавал подробности… Шаг за шагом восстановлял странную жизнь этой девушки — я не могу называть ее madame — и, знаешь, к чему я пришел, моя ненаглядная: без трагической ноты эта жизнь не была полна. Эта нота как будто гамму собой дополнила. Иначе была бы трудовая, мещанская проза, без величия, без геройства… Вообрази Ромео и Джульетту в благополучном сожитии или Отелло, окруженного карапузиками… Слишком много прозы!.. А теперь вот звучит эта гамма душу леденящим созвучием, и стоит предо мной моя царица в дивном гневе, и я не смею ее любить, смею только боготворить ее, преклоняться перед нею…
— Как ее звали? — спросила Варя, чувствуя, что вслед за словами графа и в ее душе возникает светозарный образ величавой и загадочной женщины.
— Женни, — ответил граф и, покинув диванчик, пересел па табурет. — Вот послушай: я попытался звуками изобразить эту жизнь, — произнес он. — Но не ожидай чего-нибудь самостоятельного, о, нет… Ты знаешь, у меня нет композиторского таланта, нет оригинальности, я хочу сказать, У меня есть только вкус да «чуткость», моя прелесть, — он грустно вздохнул. — Что делать m-lle Каллиопа, по всей вероятности, прозевала час моего рождения в балагурстве с герром Вагнером, и вот теперь суждено мне, бедному, выжимать апельсины… Знаешь, как в Италии, — там не чистят их, а просто сосут и бросают. Итак, не ожидай оригинальности. Но прежде сообщу тебе текст: «Ни одной тревожной думы на душе. Небо сине. В сердце горит любовь. Соловьиная песня навевает радужные грезы…»
И он прикоснулся к клавишам. Рояль запела. Грациозные звуки с веселой безмятежностью обступили Варю. Она разбирала среди них что-то знакомое, где-то слышанное, но это знакомое струилось едва заметно и, сливаясь с новыми звуками, являлось в каком-то ясном и свежем сочетании. Воображению Вари представлялась березовая роща, насквозь пронизанная солнечным блеском, веселое мелькание душистых листьев, соловьиная песня, замирающая в отдалении, яркая зелень луга… Но вдруг какая-то тень смутно нависла над пейзажем. «Облако?» — подумала Варя и отчетливо увидала, как потускнели стволы берез и исчез глянец с клейких листочков… Соловей замолк… Она вслушалась. Светлые звуки стихали, отступали куда-то, погасали с робкой торопливостью. И внезапно в какой-то смутной дали возник невыразимо печальный и долгий стон. С каждой минутой он приближался, однообразно повышаясь, и властительно вытеснял идиллию. Неспешная вереница грациозных ноток беспорядочным узором вилась около него и в смущении разбредалась. И с каждой минутой этот скорбный звук все более и более пробуждал в Варе какие-то глубокие воспоминания. «Да что же это?» — думала она в тоскливом недоумении. Вдруг мотив зазвучал сильно и уныло. У Вари как-то радостно упало сердце: она угадала его. «Как это хорошо!» — прошептала она и смахнула слезы.
— Ты была на Волге? — говорил Облепищев. — День жаркий и душный. Раскаленный воздух неподвижен. Река в невозмутимом покое уходит вдаль. Песчаные отмели ярко желтеют, на них рядами сидят птицы. Там и сям белеют паруса, поникшие в сонном изнеможении… Все тихо. И вдруг в знойный воздух тоскливо врезается песня:
Эх, дубинушка, ухнем…
Эх, зеленая, сама пойдет!.. —
и унылое настроение охватывает тебя, и тупою болью ты смотришь на эту знойную даль, на Волгу, на поникшие паруса… И кажется тебе, что и барки эти, сонная Волга, и пустынные берега, изнизанные птицами, и вон тот курган, что, вероятно, помнит Стеньку Разина, а теперь навис над рекою в мрачной задумчивости, — все разделяет твое уныние и твою медленную боль… А песня стонет и тянется, и бесконечно надрывает твою душу.
И он снова заиграл. Однообразный стон «Дубинушки» медлительно замирал под его пальцами, уступая место звукам сильным и широким. И Варю заполонили эти звуки какой-то величавой и строгой серьезностью. Правда, тоска сказывалась и в них, но уже не казалась Варе подавленным стенанием, как в «Дубинушке», — она походила на призыв и гудела точно набатный колокол… Варя знала, что это был напев какой-нибудь старинной песни, но какой именно — не помнила. И она вопросительно посмотрела на графа.