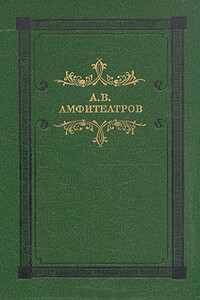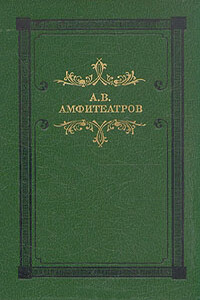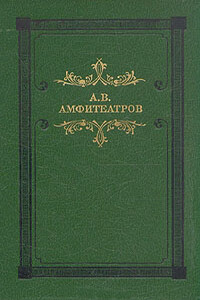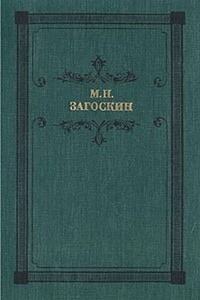Варя хотела было спросить: любит ли он ее и как, но не спросила, а тихо отняла руки и положила голову на его плечо. А он, счастливый и безмятежный, начал развивать перед ней свои планы. Она непременно должна ехать в Петербург и слушать лекции на высших курсах. Курсы дадут ей факты — научную основу для ее стремлений, полезные знакомства и связи. Он поездит по деревням, соберет материалы для книги, которую думает написать — «О проявлениях артельного духа в пореформенной деревне, в связи с стойкостью русских общинных идеалов вообще», — а к зиме возвратится в Петербург, и они заживут там на славу. Впереди же… о, впереди масса работы, масса честного и светлого труда — рука об руку с верными «однокашниками», с товарищами, испытанными в лихую и жестокую годину.
Варя слушала его, кивала головкой и улыбалась кроткою и блаженной улыбкой.
Назад они возвращались рука с рукою. Вокруг них болтливо лепетали березы, и нежные липы задумчиво шептались, и гремели неугомонные соловьи; над ними висело побледневшее небо и тихо двигались румяные облака; вдали сквозило голубое озеро и белелась у берега лодка, красивая как игрушка… «Милый мой, поедем на лодке!» — сказала Варя и бегом пустилась к берегу. Илья Петрович последовал за ней. Они отчалили; иловатое дно зашуршало под лодкой. Весла блестели и разносили звенящие брызги… Сад удалялся со своим шумом и с пахучею тенью бесконечных аллей… Купы зеленого камыша медлительно тянулись им навстречу… В прозрачной воде прихотливо извивались водоросли.
Лодка долго плавала по озеру. Она заходила и в молчаливые заводи — кругом которых сторожко и важно стоял частый камыш, и где особенно ясно отдавались удары весел; о корму и мерный всплеск воды. Она приставала и к островам, на которых непроходимой чащею рос гибкий тальник и гнездились дикие утки. Она приближалась и к тому берегу, над которым в глубокой дремоте стояла рожь и возвышались холмы круглые как купол. Иногда утки, встревоженные ее приближением, тяжко взлетали из камыша и резко крякали. Тогда серебристый смех Вари вторил этой шумной тревоге и долго стоял в воздухе, и весло гремело о корму гулко и часто. А солнце зажигало запад, и небо розовым сводом опрокидывалось над озером. В усадьбе ослепительно блестели окна. Шпиц колокольни пламенел как свеча. Отражение водяной мельницы стояло в воде ясно и живо. Смутный шум колес меланхолически разносился в чутком воздухе. Откуда-то из-за сада тоскливо тянулась песня.
Заблаговестили к вечерне. Протяжный колокольный гул плавно огласил окрестность и звенящим отзвуком разнесся по воде. И Варя встала во весь рост и, заслонившись ладонью от заходящего солнца, огляделась. И вдруг — и сад с вершинами деревьев, позлащенных закатом, и тихое озеро, и холмистое поле, и усадьба, и крылья английской мельницы, недвижимо распростертые в бледном северном небе, и село, приютившееся под ракитами, и сквозные облака, пронизанные горячим золотом, — все это предстало Варе чем-то важным и внушительным и вместе бесконечно дорогим и бесконечно близким. И она смотрела вокруг широкими глазами, и запоминала, и любовалась, вся охваченная теплотою какого-то серьезного и умилительного настроения… А Тутолмин покинул весла и, не сводя восторженного взгляда с лица девушки, залитого розовым сиянием, крепко и значительно сжимал ее руки. Вода неутомимо журчала под кормою и робко плескалась и убегала вьющимися струйками… Ласточки носились над водою.
Алексей Борисович встретил Варю на балконе. Он небрежно разрезывал новую книжку «Nouvelle Revue» и от времени до времени прихлебывал чай, стоявший перед ним на серебряном подносике. Около него лежали вскрытые письма и целый ворох газет и журналов.
— Что, m-lle, с лапотником на лоне природы услаждались? — с обычной своей усмешкой сказал он, не без удовольствия посмотрев на девушку. — Что, он не сочинил еще нового «отрывка» о мировом значении артельного мордобоя?
— Ах, как это тебе не надоест, папа, — возразила девушка, — лучше расскажи, что нового, — ведь это почту привезли?
— Что нового! Новости наши вечные. В русских журналах до того все закоулки пропахли мужиком…
— Опять… — с упреком сказала Варя.
Алексей Борисович засмеялся.
— Что делать, милая, никак не могу приучиться к мысли, что лапоть парадирует в роли «властителя дум»… Прости!.. Ну что еще, — в газетах обычный трепет и вилянье вперемешку с намеками на то, чего не ведает никто. Сферы делают мужичку глазки, что, однако, не особенно должно беспокоить нашего брата плантатора… Потом обычные пейзажи — воровство, кражи, казнокрадства, похищения, растраты… Ах, моя прелесть, что же и делать со скуки благородным россиянам — не кобелей же в самом деле топить… Pardon, — поправился он в скобках, но тотчас же с лукавством добавил: — Ты, впрочем, вероятно, привыкла к народным выражениям…
— Опять… — повторила Варя.
— Прости, прости… забываю, что ты еще не обнародилась до похвальбы грязными манжетками…
— Папа!
— Ну что еще… Много получил писем. Из Петербурга все больше точки и остервенелые доносы на скуку. Впрочем, Фонтанка воняет по-прежнему. В заграничных — жалуются на курсы и на кухню. Представь себе, подлецы немцы — до того онаглели, даже на желудки наши покушаются! Вот пишет Савельев из Карлсбада: «…Когда приходит время обеда — меня начинает тошнить: так все скверно готовят и баснословно дерут; например, за бифстекс (1/3 нашего) 1 fl. 60 kr., что составит по курсу 1 р. 36 к., и тот вареный на бульоне, чтобы не жарить его в масле, из экономии; — к нему картофель жаренный в сале, по 5 крейцеров за штуку; яйцо — от 6 до 8 крейцеров за штуку; булочка в два глотка — два крейцера: по крейцеру за глоток»… и так далее. Каково!.. Скоро, кажется, до того дойдем — Европа нас в лакейскую не будет допускать!.. Ну что еще… Ну, разумеется, по курортам различные Балалайкины шныряют, или как там у Щедрина?.. Ах, да!.. Вот… — и он с живостью взял листочек с графской коронкой. — Ты помнишь своего кузена, Мишу Облепищева? Графа Облепищева?