Карандаш плотника - [13]
9
В тюрьме города Коруньи сидели сотни заключенных. Казалось, дело здесь было организовано куда лучше, поставлено почти что на промышленные рельсы. Даже ночные выдергивания. Смертников обычно далеко не возили, все происходило на Крысином поле у самого моря. Во время казни лучи Геркулесова маяка, похожие на крылья ветряной мельницы, выхватывали из мрака белые рубашки приговоренных. Море рычало в скалистых берегах – от мыса Эрминии до Сан-Амаро, – как взбесившаяся корова, которая мечется в окнах коровника, где давно опустели кормушки. После каждого залпа наступала тишина – ни крика, ни стона. Пока снова не начинался монотонный, как литания, рев бешеной коровы.
Среди забав ночных палачей была и такая, как отсроченная смерть. Иногда кто-нибудь из узников, обреченных на гибель, выживал, кого-нибудь пуля щадила. Но эта удача, эта ненароком дарованная жизнь делала положение жертвы еще более трагическим – и в самый миг спасения, и позже. В миг спасения – потому что крошечная и своенравная надежда мешала ему, словно булыжник на дороге, сострадать тем, кто шел в одной с ним связке. Позже – потому что тот, кто возвращался, в глазах своих нес память о пережитом ужасе.
Однажды в самом начале сентября, ближе к вечеру, когда Эрбаль одиноко сидел в сторожевой башенке и следил за полетом баклана, голос художника сказал ему: Нынче ночью постарайся вызваться добровольцем. И Эрбаль, без опасения быть услышанным, гневно крикнул: Отстань! Да ты что, Эрбаль, неужто хочешь отречься от него? Это теперь-то? Отстань, художник, знал бы ты, как он на меня смотрит. Будто по шприцу в каждый глаз вкалывает. Он считает, что, когда Мариса приходит на свидание, я нарочно вклиниваюсь между ними, чтобы подслушать, о чем они говорят, и не позволяю им коснуться друг друга даже кончиками пальцев. Этот тип понятия не имеет, что такое приказ! Ну ведь ты мог бы, возразил ему художник, хоть изредка притворяться слепым. Я так и сделал, сам знаешь, что я так и сделал – и даже разрешил им соединить кончики пальцев.
А о чем они говорили? – спросила Мария да Виситасау, о чем они говорили, когда соединили кончики пальцев?
Там было очень шумно. Столько заключенных и посетителей, что, кричи не кричи, все одно плохо слышно. Но говорили они те вещи, которые обычно и говорят друг другу влюбленные, только еще чуднее.
Он сказал, что, когда выйдет на свободу, поедет в Порто на рынок Бельяо и купит ей мешочек с разноцветными бобами – теми, что у нас называют диковинками.
Она сказала, что подарит ему мешочек с часами и минутами. Что она знает одного торговца из Валенсы, который продает потерянное время.
Он сказал, что у них будет дочка и она будет писать стихи.
Она сказала, что ей приснилось, будто у них уже много лет как есть сынок, что он уплыл на корабле в Америку и стал скрипачом.
А я подумал, что от таких профессий в наши времена толку не слишком много.
В ту ночь Эрбаль был начеку – чтобы, когда наступит час выемки, вызваться добровольцем в команду расстрелыциков. И вот ведь что любопытно. Без всякого особого уведомления, будто причиной тому козни луны, вся тюрьма знала, когда наступает ночь расправы. Эрбаль, стоя вместе с другими расстрельщиками перед доктором Да Баркой, изобразил полное безразличие, словно видел доктора в первый раз. Но потом, уже прицелившись, вспомнил своего дядю-охотника и сказал доктору взглядом: Я предпочел бы не делать этого, приятель. Прошедшие школу страданий арестанты, когда их на Крысином поле ставили на кучи мусора, старались держаться прямо, но сильный ветер с моря раскачивал их, как белье, развешанное на корабельной палубе. Тот, кто стрелял первым и, так сказать, открывал охотничий сезон, подождал, пока уйдет луч маяка и наступит долгая пауза кромешной тьмы. А стреляли они против ветра. Казалось, еще чуть-чуть – и норд-ост опрокинет покойников прямо на палачей.
Доктор Да Барка продолжал стоять.
Увези его, торопливо прошептал художник. Не стреляй.
Этого я отвезу назад! – сказал Эрбаль. И быстро сорвался с места, как охотник, который держит за крылья еще живого голубенка.
Кто возвращался из путешествия в смерть, тот переходил в совсем иной порядок бытия. Некоторые лишались рассудка и всю дорогу назад без умолку что-то говорили. Для самих расстрелыциков такой человек превращался в существо все равно что невидимое и по-своему неуязвимое – какое-то время его следовало не замечать, пока вновь не обретет природное свойство смертности.
Но за доктором Да Баркой во второй раз явились всего через несколько дней.
Эй, просыпайся, засовы гремят! – поднял тревогу художник, дергая Эрбаля за ухо. Нет, нет, на этот раз я в это дело ни за что не полезу, сказал ему гвардеец. Хватит. Оставь меня в покое. Если ему суждено умереть, пусть наконец умрет. Послушай! Ты что, пойдешь на попятный? Ты ведь ничем не рискуешь, сказал художник. Разве? – едва не завопил Эрбаль. Я ума решусь, этого тебе кажется мало? По нынешним временам сойти с ума – не так уж и плохо, отрезал художник.
Охранники, дежурившие у главных ворот, пропустили в тюрьму группу расстрелыциков, но Эрбаль никого из них не знал, за исключением одного, и тут даже он, ко всему привычный, содрогнулся. Это был священник, которого когда-то Эрбаль видел на официальной церемонии с кадилом в руке. Теперь священник красовался в голубой рубашке, на боку – пистолет. Они двигались по коридорам, заглядывали в камеры, отбирали по списку людей. Все? Одного не хватает. Даниэля Да Барки. В ответ настороженная тишина, как во время ночного бдения у гроба. Фонарик высветил чью-то фигуру. Домбодан. И Эрбаль сказал: Кажется, этот.
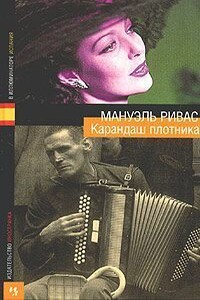
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".
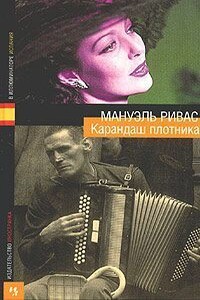
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".
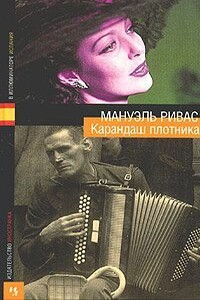
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".
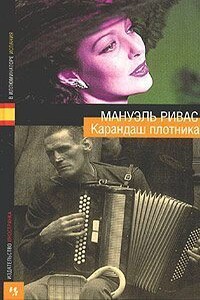
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".
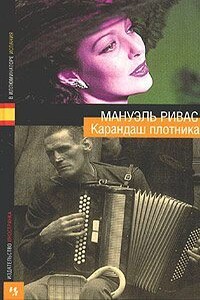
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".
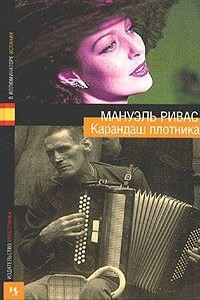
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".

Впервые в свободном доступе для скачивания настоящая книга правды о Комсомольске от советского писателя-пропагандиста Геннадия Хлебникова. «На пределе»! Документально-художественная повесть о Комсомольске в годы войны.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

Рассказы в предлагаемом вниманию читателя сборнике освещают весьма актуальную сегодня тему межкультурной коммуникации в самых разных её аспектах: от особенностей любовно-романтических отношений между представителями различных культур до личных впечатлений автора от зарубежных встреч и поездок. А поскольку большинство текстов написано во время многочисленных и иногда весьма продолжительных перелётов автора, сборник так и называется «Полёт фантазии, фантазии в полёте».

Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, — главная идея романа уральской писательницы.

Перед вами грустная, а порой, даже ужасающая история воспоминаний автора о реалиях белоруской армии, в которой ему «посчастливилось» побывать. Сюжет представлен в виде коротких, отрывистых заметок, охватывающих год службы в рядах вооружённых сил Республики Беларусь. Драма о переживаниях, раздумьях и злоключениях человека, оказавшегося в агрессивно-экстремальной среде.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…
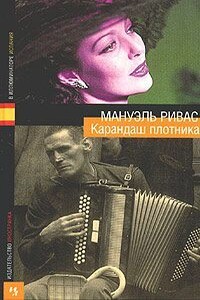
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".
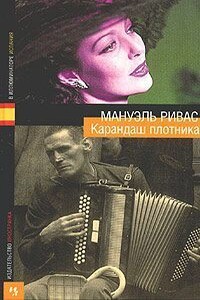
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".
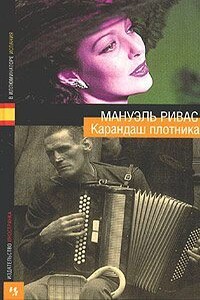
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".
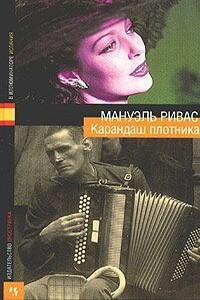
Мануэль Ривас (р. 1957) – один из самых известных и самых премированных писателей современной Испании. Он живет в Галисии, и его художественный метод критики окрестили "галисийским магическим реализмом". В своих книгах Ривас, по его словам, "пытается заново придумать реальность, перестроить ее и спасти".