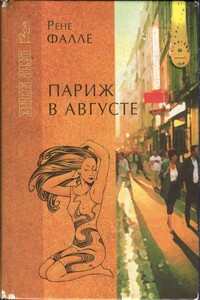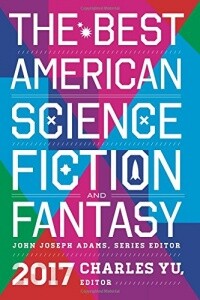Ответная гримаса Бомбастого свидетельствовала о том, что плевать ему на красоту не только крыши, но и собственную. Глод нахлобучил каскетку.
— Пойду поздороваюсь с бельгийцами, пусть не болтают там у себя, что французы дикари и всякое такое прочее. Надо с людьми вежливо себя вести.
Глядя вслед уходящему другу, Шерасс в порыве благоразумия решил было, что надо бы ему поработать в саду, впрочем, с этим делом и подождать можно. Он сгреб свою шапку.
— Я тоже с тобой пойду, полезно кости поразмять.
Они двинулись в путь под дружное хлопанье двух пар деревянных сабо. Когда Глод бросил свое ремесло, он прихватил с собой в Гурдифло запас не нашедших сбыта деревянных сабо. Так что они с Бомбастым были обуты до конца своих дней, даже если этим дням суждено длиться и длиться. Во всей коммуне только они одни круглый год, при любой погоде щеголяли в сабо. Об их появлении задолго извещал стук деревянных подошв по дороге.
— Закрывайте погреба, — хихикали остряки, — польские гусары скачут.
— Дочек, дочек из дома не выпускайте, — веселились другие, — козлы прутся!
— Берегитесь! — кричал через поле сосед соседу. — Индейцы вышли на военную тропу.
Наши друзья поравнялись с лугом, его обносил оградой Жан-Мари Рубьо с помощью своего сына Антуана.
— Приветик, Жан-Мари, — бросил Шерасс, а Глод тем временем отвернулся и, не скрываясь, уставился в противоположную сторону.
— Приветик, Сизисс, — ответил Жан-Мари. Прошли еще несколько шагов, и Бомбастый обратился к своему спутнику:
— Почему это ты, Глод, уже и с Жаном-Мари бросил разговаривать?
— Да как-то с годами разучился. Я и без болтовни все, что надо, знаю, а разговоров мне и с тобой хватает. Ну вот ты с ним заговорил, а что, тебе лучше от этого стало?
Шерасс ответил не сразу.
— Да ей-богу, не знаю, — признался он наконец. — А все-таки нужно с людьми разговаривать… Представь, мы бы с тобой не разговаривали…
— Ну мы — это совсем другое дело. Тогда бы нам плохо пришлось, ведь мы с тобой соседи.
Бомбастый снова задумался, потом пробормотал:
— Что верно, то верно. Это дело совсем другое. И потом у нас свинья общая.
— Видишь! — торжествующе заключил Ратинье. Когда они отошли, Жан-Мари с Антуаном решили передохнуть.
— Даже смотреть жалко на этих двух бедолаг, — вздохнул отец.
— Да почему? Они еще совсем свеженькие.
— Свеженькие-то свеженькие, покуда их паразиты окончательно не одолеют. Если в доме нет женщины, там только и есть чистого, что грязные рубахи. А что они едят-то? Капустный суп, сало, бифштекса и в глаза не видят — напьются и хлоп на пол, а в один прекрасный день и вовсе не подымутся. А уж Глод — последний злыдень.
— И в самом деле, почему это ты с ним не разговариваешь? Жан-Мари не спеша вытер платком мокрую от пота шею, потом буркнул:
— Это уж наше дело.
Чуть подальше Глоду с Бомбастым пришлось проходить мимо домика Амели Пуланжар, которая в качестве официально признанной местной тихопомешанной палец о палец не ударяла и только подвивала себе локоны. Так как все ее выходки были, по существу, безобидны, сыновья держали мать дома. Хотя по утрам она и пыталась электрической зажигалкой растапливать центральное отопление, зато умела очистить парочку морковок и картофелин и бросить их в суп. Когда она бралась вытаскивать из собачьей шерсти репьи, пес рычал и все шло своим чередом.
Амели всегда ходила в черном на манер всех старых жительниц Бурбонне, в национальном костюме, который она ни к селу ни к городу старалась оживить, нацепляя на голову розовый капор, который выудила в каком-то сундуке. Завидев наших дружков и приняв их за двух развеселых новобранцев, старуха радостно воздела к небу руки.
— Недоставало нам еще на эту полоумную нарваться, — проворчал Глод. Таким образинам лучше всего смирительная рубашка подходит, верно ведь?
— Дружок мой Глод, — запищала старуха. — Дорогой мой Глод! Иди, я тебя поцелую!
Уязвленный в своем самолюбии, Глод легонько отпихнул ее ладонью.
— Нет уж, старуха, не взыщи, поцелуев не будет! — И добавил, грубо хлопнув себя по ягодицам: — Если тебе так уж приспичило говядину целовать, целуй сюда!
Блаженненькая фыркнула, запустив палец себе в нос:
— Ты всегда был, миленький Глод, ужасным нахалом! Когда же ты ума-разума наберешься? Иди в армию, там тебя быстро обратают!
— Верно, Амели, верно. Через два месяца мне призываться. Вдруг она, вся даже покраснев от смущения, пискнула:
— Господи, да я же ничего тебя о Франсине не спросила! Ну как она там, моя раскрасавица?
— Хорошо, очень даже хорошо.
— Тем лучше, тем лучше! Скажи, что я завтра зайду к ней и принесу торт, хочу поздравить с двадцатилетием!
— Непременно скажу.
Они ускорили шаг, так что Амели с ее одышкой пришлось, хочешь не хочешь, выпустить свою добычу. Желая утешиться, она подхватила кончиками пальцев свои многочисленные юбки и стала отплясывать польку; от этих ее маневров в ужасе взлетели с яблони две вороны.
С самой зари Ван-Шлембруки замешивали бетон, гасили известь, суетились вокруг своего амбара, как муравьи в банке с вареньем. С верхней ступеньки лестницы Ван-Шлембрук окликнул жену, двух своих сыновей четырнадцати и пятнадцати лет, двух своих дочек десяти и двенадцати лет.