Капиталисты поневоле [заметки]
1
Маркс, Вебер и Дюркгейм также рассматривали влияние этой трансформации на свободу, демократию и солидарность. В этой книге говорится только о социальном изменении Европы. Я не хочу присоединяться к основателям социологии в их попытках найти какие-либо нравственные уроки в истории, хотя в восьмой главе я указываю на политические уроки, которые преподносит моя модель.
2
Дарнтон (Darnton, 1991) дает ценный обзор недавних исследований истории чтения. Питер Вейсс в своей книге «Marat /Sade» и Мишель Фуко в ряде своих работ по-разному показывают и подрывную роль порнографии, и непристойность власти.
3
Для Фуко и многих его последователей трансформация социального контроля и сопротивление, порожденное новыми дисциплинарными проектами, должны быть движущими темами нового исторического нарратива, который может противостоять истории материалистов. В этой книге заботы Фуко по большей части игнорируются. Я упускаю многие возможности затронуть вопросы культурных и символических структур и рассматриваю опыт власти и сопротивления у социальных лишь тогда, когда они открыто проявляются в действии. В этой книге я не следую проекту Фуко обязательно рассказывать о субъективных переживаниях людей при столкновении с семьей, сообществом, государством и гражданским обществом и их сопротивлении. Конечно, эти темы важны и достойны глубокого обсуждения, но задача данной книги рассмотреть, насколько исторические изменения можно объяснить при помощи структуральной модели элитного конфликта, которую я раскрываю в следующем разделе этой главы. Я рассматриваю усовершенствование структуральных теорий социального изменения как необходимый компонент самых различных интеллектуальных задач конструирования множественных нарративов того, как социальное изменение воспринимается и переживается.
4
Демографические детерминисты являются исключением, так как они не предпринимают попыток «вернуть людей». Они утверждают, что демографические циклы и долговременный рост населения создают условия для того, чтобы нужда породила некоторые другие формы человеческого поведения. Таким образом, любые мотивации можно допускать, а можно игнорировать.
5
Понятие «цепь благоприятных возможностей» взято из одноименной книги Гаррисона Уайта (Harrison White, 1970).
6
Способности элит могут основываться на военной силе, контроле или владении средствами производства или обмена, доступе к средствам спасения души или культурном капитале. Моя теория утверждает, что элиты получают доступ и раскрывают одну или все свои способности при помощи организационных аппаратов. Я согласен с Бурдье (Bourdieu [1972], 1977), а также Зелени, Зелени и Ковач (Szelenyi, Szelenyi, Kovach, 1995) и другими в том, что культурный капитал — базис контроля элиты, но, в отличие от них, я полагаю, что культурный капитал относится к организациям, которые составляют элиты, а не к индивидуальным представителям элит или их семьям. Семьи и индивидуальные представители могут передавать культурный капитал за пределы организаций, но сам по себе он развивается для присвоения ресурсов или доминирования над другими через организации.
7
Это определение элиты «в себе» и «для себя» напоминает различение Марксом классов «в себе» и «для себя». Однако Маркс полагал, что классы обречены в конечном итоге стать классами для себя, а модель элитных конфликтов, которую я предлагаю, утверждает, что только те элиты, у которых есть возможность действовать для себя, могут поддержать свою автономию. Элиты сами по себе подчинятся элитам-конкурентам с большими способностями, потеряют свою автономию и не смогут действовать для себя в будущем. Конечно, могут возникнуть новые элиты, возможно, с теми же организационными чертами, что и бывшая подчиненная элита, но с большими способностями для конфликта.
8
Это обсуждение основано на анализе Лукача в его «Истории и классовом сознании» (History and Class Consciousness [1922], 1971).
9
Это явление Бреннер описывает (Brenner, 1982) как «самоорганизацию правящего класса», а Андерсон (Anderson, 1974) как абсолютистское государство. Я рассматриваю их доводы и присущие им недостатки в четвертой главе.
10
Иногда в тексте будет использоваться термин «действенность», который также передает значение английского слова «agency», как его употребляет Лахман. — Прим. перев.
11
Читатели, которых интересует мой обзор всей литературы о переходе, могут обратиться к книге Lachmann, 1989.
12
И снова Вебер и его последователи рассматривают феодальные города, чтобы продемонстрировать, почему такие центры «политически-ориентированного капитализма» и формы торговли между ними не смогли развиться в настоящий капитализм без протестантской Реформации или какой-то другой фундаментальной трансформации идеологического или психологического базиса действия. Выдвигающие аргумент о том, что города и торговля представляют экономический сектор, внешний или разрушительный по отношению к феодализму, — марксисты или историки вне социологических дебатов.
13
Буа (Bois [1976], 1984, с.263-276) выдвигает схожий аргумент касательно Франции. Он показывает, что в XII — начале XIII в. сеньориальные доходы росли, хотя даже феодальные налоги уменьшались, благодаря тому, что растущее крестьянское население расчищало и колонизировало новые земли. Таким образом, общий размер дворянских поместий и общее число арендаторов, и общее количество феодальных доходов росли, даже несмотря на то, что налоги с каждого арендатора и каждого гектара земли уменьшались. Как только вся свободная земля, которую можно было легко расчистить, используя доступные тогда технологии, была занята, сеньоры стали компенсировать свои расходы, повышая арендную плату на существующих землях, тем самым вызвав демографический кризис. Буа полагает, что если бы сеньоры не стали повышать ренту, то в конце колонизации это привело бы к демографическому плато и медленному понижению, а не внезапной катастрофе, которую вызвала чума. Тем не менее так как Буа выдвигает в качестве фундаментального закона феодализма тенденцию снижения налогов с течением времени, а в качестве следствия из него тенденцию сеньоров повышать объем ренты, демографический коллапс в конце колонизации, которая на какое-то время поддержала доходы сеньоров, был неизбежен.
14
В шестой главе я показываю, что французские землевладельцы XVII и XVIII вв. старались вводить издольщину на более бедных землях, удаленных от прибыльного парижского рынка, а лучшие земли, ближе к рынкам, сдавать в аренду за деньги. Такие экономические расчеты были возможны только тогда, когда землевладельцы были уверены в своем контроле над землей. В Англии, где за контроль над землей соперничали больше, экономические соображения были вторичны, а первичны необходимость парировать притязания со стороны на владение землей.
15
Самый крайний пример находить капиталистическую практику до XVI в. принадлежит Макфарлейну, который утверждает, что весь спор об истоках капитализма бессмыслен для Англии, где были индивидуалистическая идеология и, следовательно, «развитый рынок и мобильность труда, земля рассматривалась как товар, было установлено полное частное владение, существовала очень значительная географическая и социальная мобильность, а также совершенное разделение между фермой и семьей и широко распространилась рациональная бухгалтерия и мотивация прибылью», и все это, по крайней мере, начиная с XIII в. (Macfarlane, 1978, с.105). Макфарлейн приравнивает набор этих черт к капитализму и заключает, что Англия была капиталистической в значении этого термина по Марксу и по Веберу «в 1250 г., точно так же, как в 1550 или 1750 гг.» (там же). Англия, следовательно, занимала уникальное положение для того, чтобы воспользоваться технологическим прогрессом и колониальными возможностями, которые открылись в конце XVIII в.
Работу Макфарлейна критикуют за то, что она почти полностью опирается на «налоговые записи и приходские книги [потому что они] оставляют за своими рамками столь многое» (Stone, 1979, с.40). Макфарлейн не понимает, что до XVI в. англичане продавали или обменивали крепостнические права на обработку земли, а не настоящую частную собственность. «Он совершенно игнорирует постоянный общинный контроль посредством манориальных судов почти всех аспектов использования собственности [включая] столь многие аспекты личной жизни, что сложно разглядеть, где средневековая концепция индивидуализма находит место для процветания вне той единственной сферы, которую Макфарлейн подчеркивает: власти продавать или оставлять в наследство собственность» (Stone, 1979, с.41).
16
Биддик предъявляет объемный библиографический список трудов английских историков, которые разделяют его взгляды. Фуркен (Fourquin, 1976, с.176-185) делает то же самое для французских историков.
17
Основной вклад в разработку этой модели, как указывает Бреннер, внесли Аббаккук (Habbakkuk, 1958), Постан (Postan, 1966), Леруа Ладюри (Le Roy Ladurie, 1966). Купер (Cooper, 1978) развивает этот же подход в своей критике статьи Бреннера 1976 г.
18
Бреннер (1976) сводит дискуссию между Постаном и Леруа Ладюри о послечумной эре к утверждению, что небольшая численность населения привела «к сокращению ренты в целом и рабочей силы в частности... [и в конце концов] к падению крепостничества» (1976, с.39).
Леруа Ладюри (1978) утверждает, что Бреннер игнорирует то, как его Paysans de Languedoc (1966) «включает (классовую структуру), прилагая все усилия к тому, чтобы вывести социальные группы (землевладельцев, фермеров, сельскохозяйственных работников и т. д.) из абстрактных экономических категорий (поземельная рента, прибыли, зарплата)» (с.55). Претензии Леруа Ладюри вполне оправданы, Бреннер действительно игнорирует ad hoc многократные обсуждения социальных отношений в работе Леруа Ладюри. Делая так, Бреннер проявляет излишнюю доброту к Леруа Ладюри, придавая его многочисленным трудам связность и элегантность, которой они на самом деле лишены. В результате Бреннер упускает настоящую проблему Леруа Ладюри: французский историк неспособен определить согласованный набор социальных структурных факторов, которые бы разнились по времени и месту действия, способный объяснить различия в землевладении во времени и в разных французских провинциях.
19
Схожий аргумент о связи между системами наследования и концентрацией земли в Англии выдвигает Хоуэлл (Howell, 1975; 1983). См. в Lachmann, 1987, с.124-127 критический разбор того, как Хоуэлл игнорирует воздействие перестановок в классовых отношениях и вмешательство государства в доходы крестьян и земельное держание. Эта критика близка к той, которая была обращена в этой же главе против Леруа Ладюри.
20
Разрыв между демографической причиной XIV в. и капиталистическим следствием XVII в. похож на разрыв в работе Добба.
21
Голдстоун рассматривает 1500-1650 гг., но его модель указывает на те же последствия для 1200-1348 гг.
22
Голдстоун видит в огораживании единственную меру силы землевладельцев. Это его реакция на упрощенный марксистский взгляд на развитие английского капитализма, сформулированный Тоуни (Tawney, 1912). На самом деле, как я показываю в шестой главе этой книги, английские землевладельцы, чтобы выжить арендаторов, больше полагались на другие техники, такие как «удостоверение» и ограничение церковных и манориальных судов (Kerridge, 1969, с.33-50; Hill, 1963, с.84-92; Lachmann, 1987, с.102-114; примеры того, как крестьяне лишались имущества при помощи этих методов см. у Spufford, 1974 и Finch, 1956). Только игнорируя самые важные институциональные точки классовых конфликтов в аграрном секторе, Голдстоун может утверждать, что 1500-1650 гг. «не был ни периодом решающего прогресса в Англии, ни какого-либо значительного расхождения между Англией и Францией» (1988, с.302).
23
Анализ Феноалтеа (Fenoaltea) приложим только к той части манориальной земли, которая находится под крестьянской обработкой. Его модель не применима и даже не учитывает ту долю манориальной культивируемой земли, которая относится к домену.
24
Феноалтеа не рассматривает, почему «расходы» на установление манориальных социальных отношений в одних регионах оплачивались крестьянами, а в других нет. Он не признает, что землевладельцы тоже оплачивали эти расходы, и он не сравнивает их с гораздо потенциально высокой стоимостью для крестьян уступки требованиям землевладельца.
25
Я рассматриваю доводы Фокса (Fox, 1971) в третьей и шестой главах. Он утверждает, что в Средние века и позже существовало две Франции: одна имела доступ к морям и рекам для транспортировки и рано развила рынки, а другая была изолирована в областях с ограниченным наземным транспортом. Я указываю, насколько городские рынки и транспортные сети влияли на сельскохозяйственное производство во Франции, Англии и Италии.
26
Работа Феноалтеа служит образцом той небрежности, с которой самопровозглашенная школа теоретиков рационального выбора обращается с историческими источниками. Несмотря на повторяющиеся, хотя и все более слабые заявления о своей радикальной политической цели, эти теоретики подражают самым худшим тенденциям «буржуазных» неоклассических экономистов, отделяя «опции» действительных экономических акторов из контекста социальных отношений, подвижного и состязательного, внутри которого принимались решения. Даже Леви (Levi, 1988), которая демонстрирует действительное знание истории, которую она пытается объяснить, делает ряд выводов, которые только затемняют контекст, в рамках которого правители осуществляли свою деятельность и вызывали какие-то реакции. Ее работа и ее подход обсуждаются более подробно в четвертой главе.
27
Для знакомства с общим подходом к стратификации крестьянства см. Шанина (Shanin, 1972). Политическое и экономическое неравенство среди крестьян в феодальную эпоху для Англии рассматривают Чибнол (Chibnall, 1965), Дюбуле (Du Boulay, 1966), Дайер (Dyer, 1980), Харви (Harvey, 1965), Хэтчер (Hatcher, 1970), Хилтон (Hilton, 1975) и Хоуэлл (Howell, 1983). Для Франции в эту эпоху выдающееся исследование проделал Буа (Bois, 1984), а также см. Лорента (Laurent, 1972).
28
Я использую провинцию как первичный территориальный блок для анализа по двум причинам. Во-первых, именно на этом уровне обобщения концентрируются работы многих французских историков. Хотя многие французские исследования касаются деревень, их недостаточно для проведения полноценных сравнений по всей стране хотя бы на первичном уровне. Во-вторых, как я покажу в последующих главах, элиты организовывались на уровне провинций и воздействовали на социальные отношения в аграрном секторе и на этом уровне, и на общенациональном.
29
Некоторые провинции не включены в табл. 2.1 и рис 2.1 потому, что в опубликованных источниках не анализируется состояние классовых отношений в аграрном секторе в эти столетия.
30
Надо отдать должное Голдстоуну, он никогда не пытался применить свой анализ типов почв к раннему периоду. Больше всего он интересуется поздней отсталостью южной и западной Франции в XVIII в. Однако французские регионы с бедной почвой предчумной эпохи, кажется, входят в число тех, которые наиболее далеко продвинулись в своем развитии от классических феодальных общественных отношений.
31
Обсуждение в этом и последующих абзацах основано на двух источниках в дополнение к тем, что указаны в тексте. Во-первых, это сборник статей (Lot, Fawtier, 1975), в которых обсуждаются институции Франции XI-XIV вв. Во-вторых, это работа Мейджора (Major, 1980, с.1-204), где рассматриваются поместья в провинциях Франции и независимых образованиях на территории, которая позже стала Францией в XII-XV вв. В двух этих работах достаточно свидетельств для классификации структуры элит всех провинций, включенных в табл. 2.1.
32
Обсуждение в этом разделе взято из третьей главы моей книги (Lachmann, 1987). Читатели, желающие ознакомиться с ним более подробно, могут обратиться к этой работе, где содержится обширная библиография.
33
Косминский и Дайер отмечают, что некоторые вилланы были крупными землевладельцами и имели больший доход, чем некоторые фригольдеры, хотя в целом большинство фригольдеров жили лучше, чем вилланы.
ТАБЛИЦА 2.4. Размеры манора и пропорции распределения земли в 1279 г.
>---------------------------------------------------------------
>Размер манора Пропорция Пропорция
>. домен/земля фригольд/земля
>. вилланов вилланов
>---------------------------------------------------------------
>Мелкие маноры (до 500 акров) 56 : 44 48 : 52
>Средние маноры (500-1000 акров) 49 : 51 40 : 6о
>Крупные маноры (свыше 1000 акров) 33 : 67 31 : 69
34
Мн. ч. от лат. famulus — домашний слуга. — Прим. перев.
35
Большинство фамули занимали эту позицию временно, ожидая наследства-держания от своих старших. Фамули не имели долгосрочных обязательств трудиться на земле домена и могли покинуть эту позицию, унаследовав собственный надел земли (Postan, 1954).
36
Косминский (Kosminsky, 1956) наиболее полно рассмотрел социальную структуру Англии в предчумную эпоху, проанализировав «Сто Свитков» 1279 г. — единственный общенациональный земельный кадастр между «Книгой страшного суда» и «черной смертью». Косминский (с.101) сравнивал долю земли, относящуюся к домену, с долей в вилланском держании и долю земли фригольда с вилланским держанием в шести графствах: Кембриджшир, Бедфордшир, Бекингэмшир, Хантингдоншир, Оксфордшир и Уорвикшир. Он сравнивал пропорции в зависимости от размеров манора (табл. 2.4).
Различия в пропорции в зависимости от размера манора и различия по графствам в зависимости от размеров манора можно объяснить историческим развитием маноров. Маноры раздавали английские короли светским и церковным землевладельцам в обмен на выполнение ими военных обязательств после 1066 г. Манориальные лорды, в свою очередь, раздавали субманоры вассалам в обмен на их услуги по выполнению военных обязательств перед королем (Pollack, Maitland 1968, с.252-253). Субманоры в зависимости от обстоятельств их основания давали права принуждать крестьян к выполнению вилланских обязанностей через собственно манориальные суды. Чем слабее были эти права, тем более сложно было манориальным лордам привязать вилланов к манору, тем меньшая часть земли субманора была отдана под вилланские держания. Многие из мелких маноров были изначально субманорами со слабыми манориальными судами и с меньшей долей вилланов и вилланских держаний (Kerridge, 1969, с.19-23).
Сдача в аренду военных держаний в XII в. разорвала связи службы между владельцами маноров и субманоров. Некоторые бывшие военные вассалы стали независимыми владельцами маноров со своими собственными правами. Мелкие вассалы стали фригольдерами без прав феодального владения. Кроме того, многие манориальные лорды сохраняли фригольды на бывших субманорах или передавали эти владения другим вассалам. После того как вассально-военные связи разорвались, манориальные и субманориальные лорды и крестьяне-фригольдеры вместе владели примерно четвертью всей земли в маноре как фригольдеры (Pollack, Maitland, 1968, с.276-278, 600-601). Географические различия в распределении земли по графствам и индивидуальным манорам в 1279 г. были порождением разрыва цепей военного держания. Графства с меньшей долей вилланских земель сдавались в субманоры более широко, оставляя слабые манориальные суды и в мелких, и в средних манорах (Kosminsky, 1956, с.119-126).
37
Рази (Razi, 1981, с.17-27) указывает, что очень немногие держания были действительно покинуты после чумы. Даже когда вся семья погибала от чумы, ее держание наследовалось дальними родственниками. Рази идет дальше, утверждая, что наследование среди дальних родственников укрепило крестьянские общины для борьбы с послечумной сеньориальной реакцией (с.27-36). Хойл (Hoyle, 1990, с.6-12) использует схожие свидетельства для других выводов: желание землевладельцев найти наследников на освободившиеся земли делало и землевладельцев, и крестьян беспечными, даже равнодушными к тому, какие будущие права наследования будут вписаны в договор аренды, что имело решающие последствия для прав копигольдеров в XVI в., когда численность населения поднялась и вся выгода отошла землевладельцам. Другими словами, Хойл полагает, что в первое столетие после чумы крестьян защищала низкая численность населения, а не общинная солидарность или правовые гарантии, и эта защита была разрушена демографическим ростом и беспечностью их потомков при чтении и составлении договоров аренды в XVI в. Этот вывод сходен с выводом, к которому пришел Купер (Cooper, 1978, с.38-40). Вопрос о том, как договоры о копигольде после чумы повлияли на социальные отношения в аграрном секторе в XVI-XVII вв. разбирается в шестой главе этой книги. Оставшаяся часть данного раздела посвящена разбору разноречивых взглядов на классовое сознание после чумы: мнения Рази о сознательности крестьян и объединенной оппозиции землевладельцам в противоположность утверждению Хойла о том, что все классы были относительно невнимательны к правовому языку, так как недостаток рабочей силы после чумы требовал немедленного заключения договоров о земельном держании (и будущем держании тоже, так как Хойл полагает, что все акторы думали, что будущее будет такое же, как настоящее, довольно странный вывод о средневековой ментальности, если учитывать, что и землевладельцы, и крестьяне-создатели аренды копигольда пережили беспрецедентный демографический кризис, который так много изменил в их социальном мире).
38
Голдстоун (Goldstone, 1988) выделяет период после 1650 г. в своем разборе региональных различий; логика его аргументации предполагает, что географический контраст должен был проявиться и в эпоху после чумы.
39
Каталог Абеля по ценам на пшеницу показывает снижение со 100 в 1301-1370 гг. до 70 в 1391-1400 гг.
40
Файн — денежный побор в пользу земельного собственника. — Прим. перев.
41
Мартин (Martin, 1983) утверждает, что крестьянский бунт 1381 г., несмотря на его незначительные немедленные последствия, имел долгосрочный эффект усиления крестьянских общин, позволивший арендаторам освободиться от трудовых повинностей в XV в. Мартин говорит, что королевская власть в XV в. была способна сохранить сеньориальное землевладение, но не феодальный контроль над крестьянским трудом. Работа Мартина важна потому, что в ней крестьянская солидарность и бунт определяются как необходимые условия для завоевания свободы. Тем самым Мартин делает большой шаг в сторону от демографических детерминистов, утверждающих, что сами по себе изменения пропорций земля/труд автоматически давали крестьянам достаточно преимуществ, чтобы освободиться от трудовых повинностей.
Мартин расширяет наше понимание, подчеркивая запаздывающую, сбивчивую и зависимую от многих обстоятельств природу перехода от феодальных трудовых повинностей к крестьянской аренде и постепенному обезземеливанию многих арендаторов в XVI и последующих веках. К сожалению, дуализм государство — землевладелец, по Мартину, слишком прост, чтобы объяснить, почему отношения земледержания трансформировались столь специфическими путями, на которые они встали после «черной смерти», а затем в XVI и последующих веках.
42
Маркс развивал концепцию азиатского способа производства в своих «Критике политической экономии» ( [1859], 1970), «Капитале» ( [1867-1894], 1967) и «Экономической рукописи» (Grundrisse, [1857-1858], 1973) и ссылался на нее во всех своих работах. Концепция была популяризована Виттфогелем (Wittfogel, 1957).
43
Япония представляет собой исключение. Историки и социологи почти единогласно рассматривают ее как феодальное общество, которое перешло к капитализму, возможно, после Англии, но задолго до остального света. Японию использовали для поддержки разных моделей: марксистской (Anderson, 1974), мировых систем (Moulder, 1977) и веберианской (Eisenstadt, 1996; Ikegami, 1995; Collins 1997). Я надеюсь рассмотреть этот важный случай в одной из своих последующих работ.
44
Обсуждение в Journal of Peasant Studies статьи Харбанса Мукхья «Был ли феодализм в истории Индии?» (Harbans Mukhia, «Was there feudalism in Indian history?», 1981) показательно. Участники специального номера, изданного Т. Дж. Байрсом (T.J. Byres) и Мукхья (1985), единогласно согласились с тем, что понятие «азиатского способа производства» не помогает понять историю ни одного из регионов Индии. Все статьи очень важны для понимания нескольких аграрных способов производства в разных частях Индии за столетия ее истории. Однако все авторы начинают «тонуть», когда пытаются развить модель способов производства или использования способов производства, которая бы объяснила конкретный отрезок индийской истории. Читателям предлагается ряд критических толкований марксистских концепций, но ни разу не говорится, какие факторы вызывали изменения.
45
Эйзенштадт (Eisenstadt, 1988) и Коллинз (Collins, 1997) попадают в эту ловушку по-разному, как и Холл (Hall, 1988), и Бехлер (Baechler, 1988). Сам Вебер в «Религиях Китая» ( [1916], 1964) и «Религии Индии» ([1916-1917], 1958) допускает большой фактор случайности, прослеживая двустороннюю причинно-следственную связь между социальной структурой и религиозным мировоззрением. Икегами (Ikegami, 1995) ближе к Веберу в тонкости, с которой она прослеживает взаимоотношения между конфликтом и культурным изменением. Икегами не делает теоретических выводов из своего исторического исследования и выдвигает лишь имплицитные предположения, как рассматривать Японию в сравнении с Европой или другими азиатскими странами.
46
Работа Холтона (Holton, 1986) очень полезна тем, что он определяет различия в мнениях Пиренна и Вебера по поводу средневековых городов. Несмотря на это, Холтон считает их подходы практически идентичными, и поэтому не обращает внимания на то, какую различную роль Пиренн и Вебер приписывают жителям городов в своих моделях происхождения капитализма.
47
Просто-напросто (фр.)
48
Хотя теоретические концепции Броделя и Валлерстайна имеют много общего, Валлерстайн более точен в своем определении капитализма, чем Бродель. Для Валлерстайна торгующий город не является подлинно капиталистическим или не находится в ядре капиталистической мировой системы, если он не играет более активной роли в определении формы производства и эксплуатации в периферийных регионах, как это было в ренессансных итальянских и нидерландских городах. Кроме того, Валлерстайн и Абу-Лугод (Abu-Lughod, 1989), которая рассматривает период 1250-1350 гг., допускают возможность множественных ядер в мировой системе, в отличие от Броделя, который верит в единственную мировую столицу. Следовательно, моя критика Броделя в этой главе неприложима напрямую к доводам Валлерстайна. Я рассматриваю ограниченность модели мировой системы Валлерстайна в ходе построения своей аргументации в четвертой-шестой главах.
49
Коэн (Cohen, 1980) выдвигает схожий аргумент, утверждая, что католики эпохи Возрождения, особенно жители итальянских городов-государств, проявляли капиталистический дух в своем преследовании прибыли, независимо от того, как они тратили свое богатство. Холтон (1983) критикует Коэна за то, что он путает рациональные техники, к которой прибегали итальянцы Ренессанса, и рациональное экономическое действие, которого не было ни во Флоренции, ни в других городах-государствах.
50
Конечно, вопрос, в котором жизненно важными являются разрывы, и служит основой моих разногласий с Марксом и Вебером, и предметом спора между марксистами и веберианцами.
51
Абу-Лугод (Abu-Lughod, 1989) напоминает нам, что европейские купцы были скрягами по сравнению с торговцами Ближнего Востока и Азии. Ее ценная синтезирующая работа определяет европейские города как узлы всего одной из восьми субсистем в мировой торговле в XIII в. Она указывает, что «Закат Востока» предшествовал «Расцвету Запада». Но Абу-Лугод не может сказать нам, почему блоки, которые она определила как ведущие городские центры XIII в. — ярмарочные города Шампани, текстильные и коммерческие города Фландрии и великие города Северной Италии — не смогли, как и мусульманские и азиатские города, удержать экономическое лидерство.
52
Весьма полезный разбор Валлерстайном причинно-следственных связей между положением в мировой системе и внутренней политикой в периферийных областях плохо применим к проблеме смены лидерства в ядре мировой системы. В этом отношении, модель Валлерстайна подъема Англии и Франции до позиций в ядре в XVI-XVIII вв., представленная в «Современной мировой системе» (The Modern World System, тома 1-3, 1974-89), несет те же затруднения, что и разбор Броделем (1979) Ренессанса.
53
Вебер первым попытался объяснить потерю ренессансными предпринимателями конкурентоспособности в своей диссертации по истории средневековых торговых компаний (1889), сравнивая эти предпринимательские организации с предприятиями, основанными капиталистами в протестантской Германии и особенно в Англии. В «Экономике и обществе» (Economy and Society) Вебер определяет политически ориентированный капитализм как стремящийся получить прибыли через политическое доминирование, хищническую деятельность, и чрезвычайно тесное сотрудничество с политическими объединениями ([1921] 1978, с.164-166, 193-201, также 1961, с.246-247). И напротив, экономически ориентированный капитализм это «стремление получить прибыли через постоянные покупки и продажи на рынке... или стремление получить прибыли через непрерывное производство товаров на предприятиях с капиталистической бухгалтерией» (1978, с.164).
Экономически ориентированный капитализм также стремится к прибыли «непрерывно выполняя финансовые операции с политическими объединениями» (Weber, 1978, с.165). Инвестиции в государственные облигации, или прибыли с непрерывной торговли и производства, зависящие от государственного покровительства, требуют правовой защиты стабильного бюрократического государства. Как таковые эти инвестиции становятся основными только после того, как пуританизм привнес рациональность в бюрократические государства. До Реформации прибыль от «политической деятельности была повсюду лишь результатом соперничества между государствами за власть и соответствующего соперничества за капитал, который свободно перемещался между ними» (1978, с.165).
54
Вебер считал Реформацию и развитие протестантской этики необходимыми условиями для бюрократического государства, которому они предшествуют по времени, и являются его причиной, точно так же, как и капитализма. Я рассматриваю это утверждение Вебера в шестой главе. Чтобы рассмотреть проблемы, затронутые в данной главе, необходимо лишь определить отношение между формами экономического действия, с одной стороны, и структурами общественных отношений, более конкретно политических институтов, с другой.
Коллинз изгоняет протестантизм не только из изучения Ренессанса, но также из модели Вебера и своей собственной, полной модели капиталистического развития. В «Последней теории капитализма Вебера» (Weber’s Last Theory of Capitalism, 1980, с.934) Коллинз утверждает, что в «Общей экономической истории» Вебера «протестантизм только последнее звено в одной из цепочки факторов, ведущих к рациональному капитализму». В результате Коллинз видит в итальянских ренессансных городах пункты капиталистического развития, особенно после народных восстаний XIV в., «которые вытеснили харизматическое право прежнего класса патрициев и заменили его на универсалистское и „рационально утвержденное>“ право, от которого так многое зависело в институциональном развитии права» (с.939).
Коллинз в этой части своей аргументации следует мнению Вебера о том, что западные города привнесли вклад в рациональность, освободив горожан от феодальных ограничений. Для Вебера городские свободы состояли из двух элементов. Первый был свободой от ограничений и обязанностей, налагаемых на своих подданных феодальными синьорами. «Городское гражданство. узурпировало право расторгать связи сеньориального господства; это было замечательным — в действительности, даже революционным, — нововведением, которое отличает средневековые города Запада от всех других» (Weber, 1978, с.1239). Бюргеры смогли потребовать эти свободы потому что, с децентрализацией военной и политической власти в феодальной Европе (в отличие от объединенной политической власти в Китайской империи), городские корпорации могли нанимать свои собственные вооруженные силы для того, чтобы бросать вызов, или, по крайней мере, пугать армии королей (с.1239, 1260-1262; Weber, 1961, с.237-238).
Вторым элементом городских свобод на Западе было отсутствие «магических, тотемических, родовых и кастовых свойств клановой организации, которая в Азии препятствовала объединению в городские корпорации» (Weber, 1978, с.1243, см. также 1961, с.238). По мнению Вебера, предреформационное христианство выпестовало рациональность в том смысле, что позволило европейским бюргерам образовать политические союзы с теми, кто находился в таком же экономическом положении, а не разделило их клановыми барьерами. Таким образом христианство дало средневековым европейским буржуа желание, а феодальная основа военной организации обеспечила средства, чтобы осознать свой интерес, не происходящий ни от магической концепции рода, ни от аристократической концепции почетного статуса.
Согласно Коллинзу (1980, с.940), упадок итальянских городов-государств, и уступка своего положения Англии объясняются скорее преимуществами, которые имело национальное государство в соперничестве за мировой рынок, а не дополнительным капиталистическим рвением, вызванным протестантской этикой. Коллинз полагает, что такова была последняя идея Вебера, заключенная в «Общей экономической истории». Я рассматриваю это как собственную модель Коллинза, а не Вебера, и анализирую ее как таковую в конце данной главы.
Признание Коллинзом роли национальных государств в трансформации европейского экономического действия в XVI и последующих веках—это гораздо более утонченный веберианский взгляд на историю, чем тот, который отстаивают Холл (Hall, 1985) и Широ (Chirot, 1985), учитывающие лишь наиболее общие исторические элементы аргументации Вебера, представленные в уже указанном примечании как основу для утверждения, что все необходимые условия для особого развития Европы уже существовали в раннем Средневековье. Холл и Широ летают выше исторических «мелочей», которые являются предметом анализа в данной книге. Следовательно, доказательства и аргументы, которые я здесь развиваю, нельзя использовать для оценки их аргументов, разве что их уверенный детерминизм не будет повержен демонстрацией высоко зависимой от множества факторов природы структурного изменения в последующие столетия.
55
Я рассматриваю ограниченность терминологии Вебера как инструмента для понимания образования государства в четвертой главе.
56
Крайдте (Kreidte, 1983; см. также Kreidte, Medick and Schlumbohn, 1981) анализирует упадок городского мануфактурного производства, применяя логику, похожую на ту, что употребляет Тилли. Крайдте утверждает, что города-государства пересилили капиталисты с сельской базой, которые использовали обширные внутренние районы национальных государств для привлечения крупной и дешевой рабочей силы крестьян, ищущих приработка. Сельские мануфактуры сбили цены дорогим цеховым мануфактурам. Хотя цеховые производители были более квалифицированы, это имело значение лишь для производства товаров роскоши — сектора, который ослабел, когда общая экономика Европы расширилась в XVI в. Описание Крайдте вызывает вопрос, почему национальные государства, а не сеть городов-государств, захватили контроль над такой сельской мануфактурой. Многие ранние предприниматели сельской протоиндустрии были купцами из городов-государств. Объяснение того, почему эти купцы обратились к национальным государствам за покровительством в XVI в. (хотя и процветали как граждане городов-государств) связано с общим упадком городов-государств как доминирующей политической силы Европы — эволюция, необъяснимая с точки зрения протоиндустриализации.
57
Конечно, точно такие же аргументы можно выдвинуть и за детальное изучение Венеции, Генуи или Антверпена, а не Флоренции. В идеале, я бы погрузился с головой в историю всех четырех городов до того, как начать писать эту главу. Но недостаток времени, а также объема в смысле общего плана этой книги, вынудили меня сконцентрироваться на одном городе. Я пытаюсь, в основном в нескольких расширенных примечаниях, показать, как и почему другие итальянские города-государства часто следовали образцу Флоренции, и подчеркнуть условия, которые отвечали за то, что эти города-государства свернули с пути, предложенного Флоренцией. Я концентрируюсь на сравнениях с Венецией, которая из всех главных городов в наибольшей степени отличалась от флорентийского архетипа. Исследователи этих других городов лучше меня смогут судить, приложимы ли выводы этой главы к истории Генуи, Венеции и Антверпена или же они противоречат ей. Я надеюсь, что историки в своей критике будут различать те мои пропуски и ошибки, которые просто вызывают досаду, от тех, которые потребуют вынесения более общих выводов в этой главе и во всей книге в целом.
58
Ограничения капитализма в Амстердаме разбираются в пятой главе, а не в этой. Амстердам XVI и XVII вв. более уместно сравнивать с его соперниками — национальными государствами Англии, Франции и Испании, а не с ренессансными городами-государствами из этой главы.
59
Рассел (Russell, 1972) делит Европу и Ближний Восток XIII в. на двадцать два региона. Каждый регион характеризует иерархия городов, которые концентрировались вокруг ведущего города, извлекавшего выгоду из коммерческого и политического господства над меньшими городами и их округой. Регионы разнились по тому, насколько они были урбанизированы и по тому, насколько ведущий город взаимодействовал со всем регионом и насколько он процветал.
Скиннер (Skinner, 1977) фокусируется на отношениях между городами и сетями сезонных рынков, чтобы измерить влияние городских центров на сельское производство и общественные отношения. По Розману (Rozman, 1976), «предсовременные (премодерные) общества можно классифицировать, согласно семи стадиям развития... [которые] обозначают последовательную схему растущей сложности в коммерческих и административных взаимодействиях между поселениями» (с.282).
Две недавние, и выдающиеся, работы по развитию европейских городов (Hohenberg and Lees, 1985; Bairoch, 1988) сравнивают степень урбанизации и число и уровень городов в различных регионах Европы в течение долгого времени как показатель городского богатства и власти над округой.
60
Третья, и наиболее эффектная, фаза европейского урбанистического роста прошла в XIX — первой половине XX вв. (Bairoch, 1988, с.216).
61
Цифры по урбанизации в этом абзаце являются приближенными средними оценок, представленных у Байроха (Bairoch, 1988, с.179) и Де Вриса (De Vries, 1984, с.30, 36). Де Врис считает урбанистическими только жителей городов с населением свыше 10 000 человек; для Байроха нижний предел — 5000 человек. Обе эти цифры отличаются от оценки Расселом десяти самых населенных городов по процентному отношению к общему населению региона. Так как эти три оценки разнятся, я представляю пропорции, а не процентное отношение для последних двух данных.
По Де Врису, точное процентное отношение урбанизации на каждой «территории» может быть подсчитано делением суммарного урбанистического населения, цифры которых он приводит на с.30, на суммарную численность населения, цифры которых по регионам он дает на с.36. Рассматривая Северную Италию, я совмещаю данные, которые Де Врис различает, по Северной и Центральной Италии. Эти региональные проценты дают в точности такие же пропорции для средних оценок Де Вриса по всей Европе, как и усредненные цифры у Байроха. Де Врис и Байрох приписывают города к государствам на основании границ XX в. Конечно, границы тогда были другими, а многих государств просто не существовало в 1500 или 1700 гг.
62
Я ограничиваюсь христианской Европой, чтобы избежать необходимости рассмотрения городов, которые были связаны с империями и торговыми системами, в основном базировавшимися за пределами Европы, такими как Османская империя или мусульманская Испания.
63
Кордова, и во второй период Гранада, являются особыми случаями. Они становятся крупными городами тогда, когда часть мусульманского мира по большей части переместилась за пределы Европы. И Кордова и Гранада пережили резкое сокращение численности населения после того, как их «отвоевали» испанцы-христиане. Кордова достигла своего пика, может быть, в 90 000 человек как раз перед крушением халифата в 1031 г. После отвоевания в 1236, город постепенно утерял свою роль торгового и политического центра мусульманской Испании. Численность населения упала до 40 000-60 000 человек к 1300 г. и, наконец, стабилизировалась на цифре в 30 000 к 1500 г. Изъятие Кордовы из мусульманского мира было счастливым шансом для города Гранада, который получил политический и торговый контроль над остатками мусульманской Гранады после 1236 г. Гранада выросла до 30 000 жителей к 1300 г. и достигла пика, возможно, в 90 000 в XV в. После реконкисты 1492 г. численность населения резко упала. Хотя она еще входила в список крупных городов в XVI в., население Гранады сократилось до 35 000 к 1700 г. (Russell, 1972, с.181-84; Chandler, 1987, с.129-31). Так как то, что оба города добились выдающегося положения как часть исламского мира, здесь не рассматривается, а сокращение населения вместе с потерей политического и коммерческой значимости последовало за их включением в христианскую Испанию, в этой главе я больше их касаться не буду.
64
Таблица 3.2 также не включает «отвоеванные» города Кордову и Гранаду.
65
Палермо, столица некогда независимой Сицилии, переживает «быстрый рост численности населения» в XVI в. «для чего, как кажется, не было никаких оснований» (Russell, 1972, с.55). Рассел не одинок в своем удивлении перед гигантским населением столицы мелкого политического образования с относительно неразвитой промышленностью и торговлей. Ни один историк демографии не может дать объяснения росту этого города. Каковы бы ни были причины, рост Палермо не усиливал позиций Венеции, Флоренции или другого города-государства в Европе XVI в.
66
Даты в этом и предыдущем абзацах взяты из работ Абу-Лугод (Abu-Lughod, 1989, с.51-134) и Броделя (Braudel, 1982, с.96-174), которые предлагают наилучшую хронологию переходов статуса экономического центра среди европейских городов.
67
Численность населения является хорошим показателем возвышения и упадка ярмарочных городов Шампани как центров европейской промышленности и торговли. Не существует точных данных о Бар-сюр-об и Ланьи, но для других двух ярмарочных городов, Провенса и Труа, которые также были полустолицами независимой Шампани, данные достаточно ясные. В первой половине XIII в. оба города достигли пика численности населения приблизительно в 20 000 человек, оказавшись в числе пятидесяти крупнейших городов Европы. (Один источник, основанный на подсчете церквей в Провансе, указывает даже на пик в 30 000 человек в XIII в.) С подчинением Шампани Франции и потерей этими двумя городами статуса полустолицы рост прекратился. Труа застыл на численности в 20 000 человек на несколько последующих столетий, а в Провансе произошло драматическое снижение до 3 000 человек в 1361 г. (все данные взяты в Chandler, 1987, с.160, 167).
68
Аргументация в этом и последующих трех абзацах основана на историческом анализе, проделанном Фридрихсом (Friedrichs, 1981) и Мауро (Mauro, 1990).
69
Раскол между папством и германскими императорами подробно исследуется в Partner, 1972, глава 4.
70
Оставшаяся часть данной главы, до самого заключения, фокусируется на Флоренции. Как я отмечал выше, недостаток времени и объема книги позволяют провести лишь беглое сравнение с другими итальянскими городами.
71
Уайт (White, 1992, с.262-65) описывает «опускание (для побуждения к действию)» как усилия организовать акторов, занимающих положение ниже в иерархии, чтобы создать новый зазор для деятельности вышестоящих, действий, которые вышестоящие не могут предпринять без организовывания нижестоящих.
72
«Система Муда» Венеции, которая стала главенствующей в этом городе-государстве к 1330 г. и прожила два столетия, была в некоторых важных аспектах зеркальным отражением предпринимательской системы, которая появилась во Флоренции. Венецианское государство контролировало все купеческие суда и определяла маршруты, даты отплытия и размеры груза (McNeil, 1974, с.60-64). Любой венецианский гражданин мог арендовать место на судне, тем самым не давая какому-либо купцу или синдикату доминировать на торговом маршруте или играть на понижение в торговле товарами широкого потребления. В результате, экономическое преуспевание всех венецианских купцов зависело от военных успехов их родного города. Венецианцы, находясь под покровительством и контролем своего государства, не нуждались в независимых связях с иностранными купцами или политическими силами, которые могли бы поддержать их купцов, как это было с флорентийцами, после краха военного могущества их государства в Эгейском море. (Изначально «Муда» — японское обозначение непродуктивной деятельности, которую использует в своей стратегии и компания «Тойота». В действительности это некие бессмысленные услуги, которые нравятся клиентам и за которые они, в конечном итоге, платят, не отдавая себе в этом отчета. —Прим. перев.)
Макнил показывает, что такой же контраст можно найти между Венецией и Генуей. «Постоянная слабость генуэзской коммуны была ее силой: группам частных лиц приходилось организовываться на более постоянной основе и с большими ресурсами, чтобы заниматься своей ежедневной деятельностью, такой как строительство нового корабля. Потом оказалось вполне приемлемо организовывать целые флоты как частные предприятия: и частным образом организованный флот, которому довелось захватить ценную территорию, мог трансформироваться в территориального суверена к выгоде одних только своих дольщиков-куп-цов (1974, с.58). Однако, хотя генуэзская торговля была более приватизированной, чем венецианская «система Муда», она тоже зависела от военной мощи своего города. Экономические победы Генуи над Венецией последовали за генуэзскими военными победами в войнах 1350-1355 и 1378-1381 гг. с Венецией (Lane, 1973, с.174-196; Epstein, 1996, с.230-242).
Генуэзские купцы, как и венецианские, концентрировали свою торговлю на маршрутах и портах, которые находились под их военным контролем. До подъема более мощных в военном смысле национальных государств, венецианские и генуэзские купцы успешно попользовались воинской доблестью своих городов. А когда города-государства были пересилены более мощными державами, у венецианских и генуэзских купцов не осталось баз для проникновения в экономику и политику национальных государств. Тогда флорентийцы приобрели коммерческое преимущество над своими соперниками из Венеции и Генуи, пережив напряженности разного рода своей системы на века позже.
73
Историки продолжают спорить, за что римские папы покровительствовали флорентийским банкирам: за их выдающиеся финансовые таланты или за рабскую верность позиции пап в международных делах. Возможно, разрешить этот спор поможет вопрос, почему венецианские, генуэзские и другие итальянские банкиры не стали, или не смогли, приноравливать политику своих городов к международным планам папства. Ответ на этот вопрос звучит так: потворствовать желаниям пап означало оставить надежды на господство в Средиземноморье, что, в свою очередь, означало потерю по крайней мере некоторых торговых маршрутов, которые венецианцы и генуэзцы считали более прибыльными, чем папские налоговые откупы. Так как у флорентийцев не было своих торговых маршрутов, которые они могли потерять, поддерживая папство, у банкиров не возникло сложностей с тем, чтобы уговорить другие флорентийские элиты принять папскую линию. В действительности, когда во флорентийском правительстве брали верх антипапские фракции, папство отнимало финансовые концессии у флорентийских банкиров, или банкиры были вынуждены покинуть свой город и вести дела где-то в другом месте. Финансовые потери в этих других местах не удавалось восполнить, что вело к неминуемому падению антипапских правительств, и возвращению к пропапской политике во Флоренции (Трекслер (Trexler, 1974) представляет case-study этого процесса; Партнер (Partner [1965, 1968, 1972], собрал наиболее полную историю флорентийско-папских взаимоотношений). В отличие от Флоренции, пропапские силы в Генуе и Венеции всегда были стреножены тем большим богатством, которое граждане этих двух городов получали от торговых маршрутов, сохранявшихся под их контролем вопреки желаниям пап. Лэйн (Lane, 1973) описывает, как неоднократно венецианцы нарушали папские эдикты о торговле, переговорах и союзах с теми или иными врагами пап.
74
Старую венецианскую аристократию постепенно подорвала высокая стоимость Кьоджанской войны против Генуи и Венгрии с 1378 по 1381 гг. Объем принудительных покупок государственных облигаций по время войны составил 107% всех налогов, что Лэйн оценивает как от 25 до 30% всей наличной стоимости собственности. Стоимость облигаций упала с 91,5% в 1375 г. до 18% в 1381 г., когда государство заморозило выплаты по процентам. Принудительные покупки сильнее всего ударили по аристократам-землевладельцам, которым приходилось продавать свою собственность, чтобы найти деньги на облигации, что привело к коллапсу цен на недвижимость, шедшему параллельно с понижением цен на облигации. Неаристократы, имущество которых не было оценено (и по большей части было переведено за границу) избежали большинства налогов и относительно не пострадали от краха облигаций и недвижимости. Государственные финансы оживились с принятием в аристократию новых семейств в 1380-е гг. Как только венецианское государство стабилизировалось в финансовом и военном смысле, правительство и аристократия снова закрыли доступ новичкам и оставались закрытыми до XV в. (Lane, 1973, с.196-201, 252-54).
75
Я полагаю, что наиболее полезными для понимания периода, когда начал происходить сдвиг от аристократического господства в 1250-х гг. и вплоть до того, как окончательно утвердилось олигархическое правление в 1400-х гг., являются работы Брукера (Brucker, 1977) и Наджеми (Najemy, 1982). Моя аргументация в этом разделе и следующем основана на этих двух книгах, а также Hyde, 1973, Trexler, 1980, Martines, 1979, и многих других, более узкоспециализированных, ссылки на которые я даю наряду с этими пятью ниже.
76
Браун (Brown, 1982, с.148-176) возражает Бекеру, утверждая, что габеллы и денежные повинности, которые, в конце концов, платило большинство городских потребителей, а не поземельные налоги были основным источником «сельских» выплат коммуны. Тем не менее, исследование Брауна фокусируется на XV и XVI вв., эпохе, когда Медичи и их союзники утверждали себя как аристократов и приобретали сельские поместья. Это не противоречит доводам Бекера о том, что городской патрициат периода 1250-1400 гг. использовал государственную власть для того, чтобы разорить старых аристократов, а два века спустя коммунальная налоговая политика вновь изменилась в благоприятную сторону для новых патрициев, желавших стать аристократами и закупить сельские поместья.
77
Это утверждение, конечно, применимо лишь к светским землевладельцам, а не к церковным, которые держали фьефы лишь благодаря своим должностям.
78
Мартинес (Martines, 1979, с.111-116) прослеживает использование ссылки во флорентийской политике. Эджертон (Edgerton, 1985) показывает силу «поругания в изображении» (pittura infamante), вынуждавшую предателей и преступников заключать мир с коммунальным правительством, силу, которая проистекала из способности коммуны наделять своих граждан статусом и идентичностью. Распространение таких санкций на дворян во второй половине XIII в. (Waley, 1969, с.214-218) было знаком того, что аристократы начали подчиняться коммуне.
79
Я рассматриваю этот момент дальше и привожу ссылки на источники своей уверенности в этой же главе, в разделе «Экономические ограничения флорентийской политии».
80
Мой анализ этих пяти эпизодов основан на описании, которое дал Брукер (Brucker, 1962 и 1977, с.39-44).
81
В 1301 г. Карл Валуа и его войска вступили во Флоренцию, чтобы привести к власти пропапских черных гвельфов, убили множество белых гвельфов и выслали из города остальных. Когда Карл перестал быть военной силой в Тоскане, белые гвельфы вернули себе контроль над Синьорией и изгнали, в свою очередь, своих врагов черных гвельфов (Holmes, 1986, с.163-185). Король Роберт Неаполитанский устроил свое избрание как Синьора на пять лет, взамен уже выбранной Синьории. У Роберта, однако, не было достаточной военной силы, чтобы вынудить коммунальное правительство выполнять его указы и решения своих фаворитов, и он так и не смог утвердить эффективный контроль над Флоренцией. В 1326 г., в ответ на военную угрозу со стороны деспота Луки Кастракани, Синьория пригласила Роберта, сына Карла Калабрийского, стать диктатором города на пять лет. В 1328 г. и Кастракани, и Карл умерли, и во Флоренции вновь утвердилось выборное правительство.
82
Флоренция никогда не проводила прямых выборов в Синьорию. Вместо этого корпоративные группы (еще действующая Синьория, партия гвельфов, и гильдии) назначали граждан для «проверки избирательных списков». Затем собиралась особая комиссия, чтобы одобрить или отвергнуть каждого кандидата. Имена тех кандидатов, которым удалось пройти проверочную комиссию, записывались и помещались в сумки. Новая Синьория выбиралась каждые шесть месяцев путем вынимания записей имен из сумок. Отслужив, граждане не могли быть избранными заново в течение двух лет. Наджеми (Najemy, 1982) прослеживает, как менялся относительный «вес» членов каждой корпоративной группы при назначении и проверке кандидатов в Синьорию. В сущности, борьба между патрициями и цеховиками в XIV в. велась за то, насколько цеховики-непатриции и члены младший цехов могли быть избранными или участвовать в проверочной комиссии. На протяжении большей части XIV в. члены гильдий играли незначительную роль или вообще никакой в проверочной комиссии. Только в 1343-1348 и 1378-1382 гг. цеховики были близки к тому, чтобы доминировать на проверках. Наконец, в 1382 г. патриции разработали способ ограничить участие гильдий в проверках до номинального уровня, при этом не давая цеховикам понять этого. Патриции допустили практически открытое назначение кандидатов и затем в проверочной комиссии, где они господствовали, отвергли большинство членов гильдий. Так как результаты проверок были секретными, цеховики на протяжении многих лет не догадывались, пока все их имена не были изъяты из сумок, что большинство из них исключены из службы в Синьории. Эта система продолжала работать и при владычестве Медичи.
83
Описание в этом абзаце и последующих семи основаны на работах Наджеми (Najemy, 1982, с.166-262) и Брукера (Brucker, 1962, с.183-396).
84
В этом вопросе с ними согласны многие другие исследователи истории Флоренции, особенно Моло (Mohlo, 1968), Бекер (Becker, 1968b), Трекслер (Trexler, 1980) и Наджеми (Najemy, 1982). Брукер (Brucker, 1977) повторяет эти доводы. Педжетт и Ансел (Padgett, Ansell, 1993, с.1295-96) и Мартинес (Martines, 1963, с.18-84) прослеживают, как патрициям удавалось наказывать тех из своих рядов, кто пытался набрать политических союзников снизу.
85
Ограничение сроков полномочий в современных Соединенных Штатах дает схожий эффект, оставляя власть в руках чиновников исполнительной ветви, лоббистов и тех других, которые финансируют выборы.
86
Долгосрочные последствия длительного контроля гильдий над производительным сектором флорентийской экономики обсуждаются в следующем разделе этой главы.
87
Это представляет полный контраст способности венецианской аристократии, уже рассматриваемой выше, контролировать богатство своих нетитулованных граждан.
88
Членство во внутреннем круге власти давало возможность использовать информацию для получения сверхприбылей через спекуляцию на долге monte. Однако эта же информация была доступна временным держателям высоких должностей, которые не были олигархами, и поэтому она быстро распространялась среди патрициев. Часто ключевые данные, необходимые для того, чтобы предсказывать и манипулировать событиями на рынке долга monte, приходили от своевременного знания шагов иностранных дипломатов и военных столкновений, а не происшествий во внутренней флорентийской политике. Такая внешняя информация была доступна в первую очередь партнерам международных банков, таких как Медичи, а не олигархам, вплетенным в локальные сети. Однако для любых успешных манипуляций на рынке требовались большие суммы наличности, а подобными суммами располагали лишь банковские и текстильные магнаты (Моло (Mohlo, 1971) лучше других проводит анализ monte в десятилетия до захвата власти Медичи. Голдтвейт (Goldthwaite, 1987, с.27) рассматривает манипуляции Медичи с monte до 1434 г.).
89
В 1447 г. папа Евгений IV, который из друга стал врагом Флоренции, умер, и его заменил Николай V, настроенный в пользу Медичи. Медичи сохраняли свое влияние на папство, а часто и контроль над ним, еще два столетия. Власть Медичи в Риме достигла своей вершины при избрании папами членов семейства, Джованни стал папой Львом X в 1513 г., а Джулио — папой Климентом VII в 1523 г. (Hale, 1977).
90
Хэйл (Hale, 1977, с.76-126) и Стефенс (Stephens, 1983) дают очень ясный пересказ истории периода, обсуждаемого в этом абзаце и двух следующих примечаниях. Трекслер (Trexler, 1980, с.462-553) разбирает, насколько велика была народная мобилизация против Медичи и подвластных Медичи правительств в этот период.
91
В 1494 г. уступки Медичи вторгшейся французской армии вызвали народное сопротивление, завершившееся мятежом, когда Пьеро (сын Лоренцо) де Медичи привел собственный вооруженный отряд угрожать Синьории. Олигархический фракционализм оживился, когда Медичи были изгнаны, а их ближайшие союзники исключены из правительства. Фракционализм открыл возможность для народной мобилизации, увенчавшейся фактическим правлением Савонаролы, чей религиозный фанатизм привел к его казни в 1498 г. Конституциональные исправления, вдохновленные Савонаролой, только на время позволили непатрициям участвовать в деятельности правительства, пока олигархи — противники Медичи не объединились заново и не начали манипулировать правительственными советами, чтобы вернуть себе власть. Эта олигархия срослась под руководством Содерини.
Правление Медичи было еще раз прервано в 1527 г., когда союз под предводительством Империи разгромил французских союзников папы и разграбил Рим. И снова, временную расширенную демократию сменили олигархи — противники Медичи.
92
Медичи вернули себе власть, когда французы, ослабшие после тяжелых военных потерь, ушли из Италии в 1512 г., оставив после себя вакуум, который заполнил альянс Испании, Венеции и папства, в котором кардинал Джованни де Медичи (будущий папа Лев X) был ведущей фигурой.
Республиканская интерлюдия 1527-1530 гг. закончилась с возобновления союза между папой из Медичи, Климентом VII и императором Карлом V. К 1530 г. Карл был неоспоримой военной силой в Италии и смог вынудить Флоренцию навсегда покончить с республиканством и стать наследственным герцогством Медичи.
93
Гильдии играли чрезвычайно важную роль в попытках патрициев отнять власть у аристократов в других итальянских городах и, следовательно, сохраняли контроль над производством в этих городах-государствах. Генуэзские, миланские и другие гильдии препятствовали сложению сельской и нецеховой текстильной мануфактуры в этих государствах до конца XVII или XVIII вв. (Belfani, 1993, с.255-60). И снова Венеция является исключением. Так как объединенная элита, правившая в независимой Венецианской республике, смогла избежать фракционной борьбы, этой элите не было необходимости идти на уступки гильдиям взамен на политическую поддержку. В результате гильдии в Венеции были менее способны, чем в других городах, помешать снижению заработка или заблокировать установление сельской промышленности (Lane, 1973, с.104-109, 312-321). Бельфани (Belfani, 1993) указывает на горные долины Брешии и Бергамо, находившиеся под властью Венеции с 1400-х гг., как основные центры итальянской сельской протоиндустрии (с.260-264).
94
Цейтлин и Рэтклиф (Zeitlin, Ratcliff, 1988) выявили схожий союз между землевладельцами и промышленными и финансовыми капиталистами в Чили 1960-х гг., союз, скованный и поддерживаемый браками между ключевыми семействами капиталистов, которые благодаря финансовым пирамидам, совместным предприятиям и взаимопересекающимся директорством в компаниях владели и держали под своим контролем большинство крупнейших банков, корпораций и поместий в стране. Цейтлин делает вывод, что «доминирующие аграрные и капиталистические элементы были внутренне связаны, если не сказать „спаяны“, таким сложным образом, что ни один из них не обладал автономией или различимой социальной идентичностью» (с.181-82).
95
Миланское шелковое производство также получало выгоду от распространения шелковицы в Ломбардии в XV и XVI вв. (Dowd, 1961, с.155).
96
Картину абсолютного упадка итальянской шелковой промышленности, которую нарисовал Чиполла (Cipolla, 1952), оспорил Гудмен (Goodman, 1981), обнаруживший, что «выпуск продукции в XVII в. был относительно стабильным» (с.423). Тем не менее стабильный выпуск продукции, особенно в эпоху падения цен, и является упадком. Образ стабильности, представленный Гудменом, противоречит его же подробному описанию того, как флорентийские компании по производству шелка не смогли собрать капитал, чтобы оплатить покупку шелка-сырца у тосканских ферм. В результате недавно произведенные в дворянство патриции, владельцы шелковичных поместий (вместе с банкирами и купцами, которые часто были одними и теми же людьми или из одной семьи) стали старшими партнерами в большинстве шелкопроизводящих фирм (Goodman, 1981, с.424-435). Основная прибыль в индустрии шелка, относящегося к товарам роскоши, в XVII в. реализовывалась в момент культивации, а не производства или продажи, как это было в предшествующие столетия.
97
Такая поддержка цехов одного правящего семейства, которая устраняла торговцев из политической власти, мешала изменениям трудовых правил в XVII в. в Милане и его ломбардском contado (Dowd, 1961). Бельфани (Belfani, 1993) показывает, что цеха были достаточно важны для правящих элит в других итальянских городах (за исключением Венеции, о которой говорилось выше), чтобы блокировать сельскую мануфактуру. Места развития итальянской протоиндустрии были «анклавами институционального партикуляризма» (с.259); то есть, микрогосударствами с объединенными элитами под покровительством римских пап, или полуавтономными связями с другими, более крупными политическими образованиями. Часто гильдии были слабыми или отсутствовали в таких преобладающе сельских политических образованиях. Правители микро-государств имели достаточно поддержки от папства или королей, чтобы бросить выбор цехам, существующим в их политиях, а обещание налоговых доходов с новых сельских индустрий перевешивало любые потери городской торговли, которые существовали в этих периферийных местах.
98
Конечно, эти индустрии затмило хлопковый текстиль Британии, первая индустрия массового производства в мировой истории, в конце XVIII в.
99
И снова, флорентийские предприниматели прибегли к стратегиям, которые были более выгодны в долгосрочной перспективе, из-за того, что они были лишены доступа к наиболее прибыльным краткосрочным инвестициям. Флорентийцев XIII в. не пускали на самые доходные торговые маршруты, потому что их город-государство было относительно слабо в военном смысле, и им пришлось заняться торговлей шерстью и стать банкирами римских пап. Те из флорентийцев XVII в., которые не могли вложить весь свой капитал в политически выгодные предприятия или в старую торговлю шелком, остались с ликвидным капиталом на руках и свободой передвижения, и сделали выбор, второй по выгодности, инвестировать в протоиндустрию, которая тогда обгоняла старые текстильные индустрии по своим масштабам и прибыльности.
100
Я рассматриваю причины такой концентрации богатства и разных типов инвестиций у флорентийцев XVII в. ниже.
101
Я буду рассматривать другой вклад итальянцев в технику рациональной экономики — изобретение рыночных правительственных облигаций, когда перейду к monte в следующем разделе.
102
С флорентийских кредитодателей собирали от 7 до 15% с внутренних займов.
103
Доходность шерсти и шелка была подсчитана де Ровером (De Roover, 1963, с.61, 69). Де Ровер (1963) для инвестиций в два корабля, груженные шерстью и один шелком, в 1441 г. указывает 14 981 флорин, исключая нематериальные активы, а доходы с этих предприятий за шестнадцать лет, с 1435 по 1451 гг., исчисляет в 29 498 флоринов. Я подсчитывал доходность, усредняя суммарные прибыли за шестнадцать лет и деля их на капиталовложения 1441 г.
104
Лопес и Мискимин (Lopez, Miskimin, 1962, с.424) указывают число в 60 служащих у Медичи в 1469 г., сравнимое с 86 служащими в 1336 г. у Перуции или 55 у Аччья-воли в 1341 г.
105
Финансирование папства стало особенно малоприбыльным в XV и XVI вв., когда доходы с церковной десятины все больше и больше стали присваиваться национальными церквями и монархами, а не папами и их прямыми назначенцами. Я рассматриваю «национализацию» церквей в четвертой главе. Пока нам важно заметить, что когда папы теряли контроль над десятиной, папские банкиры теряли прибыли от сбора десятин от имени папства.
106
Такая же судьба постигла и прибыльный квасцовый бизнес Медичи. «Квасцы были третьим после соли и серебра наиболее ценным продуктом этого времени. Их использовали в стеклянной и кожаной промышленности и, что более важно, они были необходимы для текстильного производства, чтобы чистить шерсть и фиксировать краску на тканях. При этом их всегда не хватало. Единственный значительный источник в Европе находился на папской территории... и с 1466 г. банк Медичи контролировал добычу и продажу квасцов по папским концессиям» (Hale, 1977, с.65). Медичи продавали квасцы по всей Западной Европе, используя свою банковскую и текстильную сеть. Они и папство пытались повысить свои доходы, вытеснив квасцы, добываемые в турецких месторождениях и маленьких шахтах католических земель с рынка. Однако Медичи резко утратили концессию от пап в 1476 г., когда Сикст IV передал ее Пацци, а позже нефлорентийцам (de Roover, 1963, с.152-64; Goldthwaite, 1987, с.28). Нет никаких свидетельств того, что Медичи были заинтересованы в расширении объемов производства на папских месторождениях квасцов или увеличении эффективности процесса их добычи.
107
Лев X умер в 1521 г., и после краткого понтификата Адриана VI Медичи вернули себе власть в Риме при правлении Джованни ди Биччи де Медичи в 1523-1534 гг. под именем Климента VII.
108
Венецианские банкиры ограничивались в основном приемом на хранение монет от купцов и затем «производили выплаты от имени [своих] клиентов» дома и за границей. Такие «гиробанки» редко давали займы. Деятельность этих банков тщательно регулировались венецианским государством и в 1587 г. их сменил единый, принадлежащий ему банк. И частные и государственные банки использовались Венецией, чтобы финансировать войны, давая инфляционные банковские кредиты. Банковское дело не стало источником личного обогащения в Венеции (Lane, 1973, с.147, 327-331 и далее). Генуэзские банки расцвели и угасли вместе с торговыми фирмами, которым они давали взаймы почти весь свой капитал. «Ни Рим, ни Генуя не стали лидерами в банковском деле в эти два [XII и XIII] столетия» (Lopez, 1979, с.10 и далее).
109
В Генуе установилась стабильная олигархическая республика в 1528 г., что означало, что банкиры, которые обогатились после 1557 г., были частью правящей элиты. Генуэзских политиков не тревожили фракционные раздоры, и они не пытались «опускаться» в десятилетия банковского обогащения или в тот период, когда генуэзцев вытеснили голландские банкиры (Martines, 1979, с.66-72, 94-102, 130-132).
110
Венецианские montes были установлены в 1262 г., чтобы покрыть военные расходы. Во времена войн, и особенно тех, которые она проигрывала, Венеция часто была неспособна выплачивать проценты по долгу, и цены за доли monte стремительно падали. Номинальная стоимость долей monte упала с 92% в 1375 г. до 18% в 1381 г., когда выплаты по процентам были заморожены вследствие поражения Венеции в войне Кьоджа. Многие богатые семейства были вынуждены продать свои доли и земли, чтобы покрыть расходы, что вызвало крах земельной стоимости и разорение многих членов венецианской элиты.
Финансовая катастрофа 1381 г. послужила уроком выжившим богатым семействам Венеции, и новым членам в тесно сплоченную экономическую и политическую элиту города. Те 130-150 семей, которые доминировали в Большом Совете и высших органах правительства и которые составляли основное ядро налогоплательщиков с наиболее высоко оцененным состоянием, и, следовательно, были вынуждены скупать облигации (Lane, 1973, с.95-98, 151-152) удвоили свои усилия, чтобы повысить налог на потребление, взимаемый с городских потребителей и материковых территорий под венецианским контролем, и сократить военные расходы путем ведения менее агрессивной внешней политики. Эти усилия увенчались лишь частичным успехом в XV в., когда Венеция по-прежнему сталкивалась с военными угрозами со стороны. Тем не менее, когда в XVI в. она стала относительно безопасной региональной державой, monte стало ежегодной рентой для пайщиков-аристократов (Lane, 1973, с.65, 150, 184-185, 196-197, 238, 325-326, 402, 425-4 27 — обзор monte).
Стремление венецианской аристократии сохранить свой доход с monte, даже ценой возможного (хотя маловероятного) иностранного завоевания параллельно тому, как флорентийские патриции переводили капитал из активного в пассивные инвестиции. Для венецианской аристократии контроль над своей поли-тией и предотвращение политической деградации было менее проблематичны, чем для постоянно меняющихся элит Флоренции, однако флорентийцам было легче минимализировать военные расходы, чем венецианцам. В конце концов и военная, и политическая стабильность была необходима для того, чтобы превратить montes в стабильный источник доходов для богатых бездельников и в Венеции, и во Флоренции.
111
В Венеции XVI в. «более чем 200 000 дукатов, ежегодно уходивших на зарплату 700-1000 [из 2500-3000 в целом] дворянам, были значительным вкладом налогоплательщиков в доходы этого класса». Неблагородные «граждане-по-рожде-нию», которых в 1575 г. было около 4 000 взрослых мужчин, занимали государственные посты ниже уровнем, и им платилось от 50 до 200 дукатов в год, в отличие от 100-500 дукатов, которые получали на постах для благородных (зарплаты были еще выше у более важных чиновников). На самом верху чиновных заработков были «либо сбор штрафов, либо взятки» и более теневые источники нелегальных доходов с должностей (Lane, 1973, с.324 и далее; см. также Mousnier, 1970, с.390-99).
112
Моло (Mohlo, 1971, гл. 1) утверждает, что высокие налоги и цены на товары массового спроса обескровливали contado, замедляя оживление после «черной смерти» 1348 г. Браун (Brown, 1982) возражает, что Флоренция не эксплуатировала contado, тем не менее ее данные и описание налоговой политики подтверждает находки Бекера и Моло.
113
Этот взгляд разделяют Джонс (Jones, 1966, 1968), Эмиг (Emigh, 1996, 1997), Литчфилд (Litchfield, 1986), Макардл (McArdle, 1978), Дауд (Dowd, 1961), Диаз (Diaz, 1978), Макнил (McNeil, 1974), Вулф (Woolf, 1968) и Эймард (Aymard, 1982). Анализ в этом абзаце и девяти последующих основан на анализе итальянского сельского хозяйства у этих авторов.
114
Исследователям истории Италии еще предстоит перерыть архивы, чтобы провести такое же детальное изучение стратификации крестьянства, которое мы уже имеем по Англии и Франции. Поэтому наше рассмотрение условий крестьянского земледержания вынуждено оставаться неполным, не обладая количественной детальностью анализа образования классов в шестой главе.
115
В шестой главе рассматриваются схожие проблемы надзора, с которыми столкнулись землевладельцы Англии и Франции, не жившие в своих поместьях.
116
Вулф (Woolf, 1968) представляет Венецию как частичное исключение из этих перемен. Он утверждает, что налоговые оценки продолжали оставаться благоприятными для владельцев городской собственности, а не сельской, и городские потребители по-прежнему получали субсидии за счет сельских крестьян и землевладельцев в XVI и XVII вв. Венеция может быть исключением в этом отношении благодаря необычайной спаянности и непрерывности существования своей правящей аристократии. Даже когда богатейшие аристократы отошли от торговли и стали вкладываться в менее рискованные и менее прибыльные сельские поместья, правящая элита в целом продолжала субсидировать город, его торговлю и военные кампании за счет своих членов из землевладельцев. Тем не менее венецианские аристократы вкладывались в землю с энтузиазмом, как и их тосканские и ломбардские коллеги (Burke, 1974, с.106-108).
117
Для Тилли и его единомышленников упадок городов-государств как важных геополитических образований начался и закончился со включением феодальных синьоров, некогда весьма вольготно рассеянных по огромным, но слабым империям, в централизованные национальные государства. Даже бедные аграрные национальные государства были способны лучше присваивать ресурсы, чем богатые, но крошечные города-государства. Когда политический пат среди держав и аристократий завершился и конкурирующие феодальные элиты были включены в государства, города потеряли свое относительное преимущество и попали в подчинение к более крупным государствам, или же, если они и сохраняли свою независимость, они были вытеснены из торговли в недавно консолидировавшихся государствах, и поэтому теряли свои коммерческие привилегии. Как я заметил в самом начале этой главы, модель Тилли вызывает вопрос, почему сельские аристократы были включены в государства, которыми правили монархи, а не в расширявшиеся города-государства или городские лиги, возглавляемые бюргерскими олигархиями. Ответ на этот вопрос, который дает наш анализ истории Флоренции, состоит в том, что деградация и «опускание» создавали политические структуры, которые препятствовали экспансионистским попыткам господствовать над сельскими областями вдали от каждого города.
Бродель, который справедливо отверг мнение Вебера о предреформационных капиталистах как неспособных на полностью рациональные экономические действия, сам неспособен объяснить, почему итальянские купцы не всегда следовали экономически ориентированному капитализму. Концентрация на конфликте элит и его структурных последствиях позволяет нам в этой главе объяснить поведение флорентийских капиталистов и предложить основу для анализа времени и масштаба успехов и неудач капиталистов в этом параде ведущих городов, описанном у Броделя.
118
Этот спор начался на страницах «Science and Society». И самые первые, и дальнейшие статьи переиздал Хилтон (Hilton, 1978).
119
В седьмой главе тезис Вебера о протестантской этике разбирается более подробно и предлагается социально-психологическая модель, которая лучше соответствует массе исторических данных, которые противоречат доводам Вебера.
120
Пуланцас (Poulantzas, 1975, с.157-167) повторяет модель относительной автономии Маркса и Энгельса. В отличие от Маркса и Энгельса, Пуланцас даже не пытается объяснить, как феодальная классовая борьба могла повлиять на способности соперничающих классов аристократов, буржуа и крестьян. Он просто утверждает, что буржуазный класс получил экономическую власть в Англии, не определяя механизма и даже не описывая процесс, который мог отвечать за проникновение капиталистического производства и обмена в Англии XVII в. в большей степени, чем во Франции в то же время. Так как Пуланцас считает структуру государства всего лишь отражением классовых сил в гражданском обществе, он не анализирует, какое влияние оказывали действия «относительно автономных» государственных элит Англии и Франции на классовые отношения. Он полагается на итоги английской Гражданской войны и французской Фронды, чтобы предугадать классовый характер обоих государств, и затем заявляет, что государственная форма отражает расстановку классов в гражданском обществе. Эта цепочка заключений подменяет собой анализ причин и следствий и является совершенно неопробиро-ванной эмпирической реальностью государств и классов в конкретных обществах.
121
Томас Эртман в «Рождении Левиафана» (Thomas Ertman. Birth of Leviathan, 1997) предлагает важные поправки к моделям Тилли и Манна. Эртман различает два аспекта государства: их «политический режим» (т. е. является ли государство абсолютистским или конституционным) и «характер государственной инфраструктуры» (т. е. являются ли государственные посты наследственными или бюрократическими). Эртман, следуя Отто Хинце (Otto Hintze, [1902-1906] 1975), рассматривает могущество представительных институтов как ключевую объясняющую переменную при определении результатов абсолютистской или конституциональной деятельности государства. Двухпалатные законодательные органы с избирателями, организованными по географическому принципу, лучше способны сопротивляться монархам, чем трехпалатные органы с избирателями, организованными по сословиям, с которыми монархам легче справляться, применяя принцип «разделяй и властвуй».
Эртман уделяет особое внимание времени образования государства. Воспроизводя разделение между «первыми» и «припозднившимися» из теории модернизации (Levy, 1972), он различает государства, первыми вошедшие в геополитическое соревнование, и те, которые стали воюющими сторонами на континенте после 1450 г. Эртман утверждает, что первые военные соперники должны были создавать систему продажи должностей и другие наследуемые службы, чтобы мобилизовать ресурсы, необходимые для ведения войн. Монархи после 1450 г. имели доступ к крупным корпорациям юристов, обученных в недавно основанных и расширившихся университетах, которые могли составить бюрократию, и поэтому они не нуждались в том, чтобы отдавать государственные должности за деньги аристократам. Модель Эртмана более сложная, чем у Тилли и Манна, и она становится еще сложней, когда он пытается объяснить аномальные случаи Англии, Венгрии и Польши. Он снова начинает спор о парламентах, заявляя, что в этих трех странах были особенно сильные законодательные органы, которые в Англии преобразовали наследственную монархию в менее коррумпированное бюрократическое государство под контролем джентри. Венгерский и польский законодательный корпус действовал ради сохранения контроля аристократов над наследуемыми должностями против королей-реформаторов. Эртман, как Майкл Манн (Mann, 1980) и Перри Андерсон (Anderson, 1974) заканчивает тем, что рассматривает Англию XVII в. почти как «черный ящик», в который заходили сильные короли и мятежные парламенты, а выходили из него слабые короли и ограниченно бюрократическое правительство. Я покажу в этой главе, что мы можем рассматривать Англию в сравнении с Францией, прослеживая цепочки элитных и классовых конфликтов, зависящих от других факторов. Нам совсем нет нужды искать корреляции факторов, которые оставляют нетронутыми и необъясненными ключевые моменты трансформации.
Схожим образом, Брюс Портер (Bruce Porter, 1994) и Брайан Даунинг (Brian Downing, 1992) коррелируют войны с изменениями в характеристиках государств, даже не выясняя, как военные конфликты выстраивают или меняют цепочки конфликта. Таким образом, Портер делает важное наблюдение, что внутренние (т. е. гражданские) войны влияют на государство иначе, чем международные войны. Даунинг указывает, что заграничные завоевания могут породить богатство для милитаристских государств, и поэтому войны не обязательно требуют внутренней мобилизации и политических трансформаций. Оба автора, несмотря на их важный вклад в теорию и их детальные типологии войн и военных финансов, отделяют реальные войны от внутренней политики. Ни один из них не признает, что короли могли желать или быть вынужденными бросить вызов
внутренним элитам, даже в отсутствие финансовых кризисов, вызванных войной. Это относится и к Портеру, который даже после всех обсуждений гражданских войн в основном интересуется их влиянием на финансовые и военные возможности государства, а не тем, как они трансформируют структуру политических союзов и конфликтов.
122
Дерек Сайер (Derek Sayer, 1992) утверждает, что преждевременная политическая централизация Англии, в которой могучий король делил управление с относительно открытым общенациональным правящим классом с опорой в Парламенте, «сформовала такое гражданское общество, в котором была возможна капиталистическая политэкономия» (с.1411). Сайер все-таки оговаривается в заключении: «Я не утверждаю, что образование государства было причиной капитализма, в Англии или где-то еще... Я также не склонен уделять преувеличенное внимание непосредственным причинам экономического подъема. Меня интересовали те множественные способы, при помощи которых образование английского государства. сформовало такое гражданское общество, в котором была возможна капиталистическая политэкономия» (1410-1411).
Черты английского государства, которые подчеркнул Сайер, существовали веками до наступления аграрного капитализма. Игнорируя непосредственные причины, Сайер не может указать причинно-следственные связи между английским государством и капитализмом и довольствуется широким заключением о том, что государство имело какое-то отношение к «возникновению ранее не существовавшего „индивидуума"... наделенного частными правами и представительством в государстве. Именно эти индивидуумы были агентами капиталистической экономики» (с.1398-1399).
Формулировка Сайера оставляет каждое звено в логической цепочке неопределенным и непроверяемым. Он не рассматривает конфликты, которые породили такую особую форму государственности, или то, как эта форма ограничивала и определяла политические и экономические права. (Этой теме посвящена работа Corrigan и Sayer, 1985, где авторы более внимательны к случайным и противоречивым следствиям политических конфликтов и формам государства, чем Сайер отдельно в своей более поздней догматической декларации).
123
Многие историки относятся, по крайней мере имплицитно, к одному из этих трех направлений, хотя они определяют акторов и их интересы в других терминах, нежели те теории, которые были здесь рассмотрены. Так, Кристофер Хилл (Christopher Hill, 1963), наиболее выдающийся защитник модели классового анализа для Англии, не обсуждает классовые интересы буржуазии в целом. Вместо этого он описывает, как у покупателей бывшей монастырской собственности появился общий интерес защитить свои права на собственность от попыток короны вернуть себе церковные земли и десятину. Подобная неспособность отделить друг от друга класс буржуазии и аристократии, с их противоположными интересами, означает, что очень немногие историки Англии приняли или развили трактовку Добба (Dobb, 1947) модели относительной автономии. Основной корпус историков, включая сюда многих из тех, чьи работы анализировались выше, склоняется к подходу с упором на государственность. Тем не менее доводы, изначально представленные Тревор-Ропером (Trevor-Roper, 1965) и Стоуном (Stone 1970) развернули историческую и теоретическую дискуссию в сторону от Тилли и Манна с их концентрацией на особых характеристиках «государств Ренессанса». Историческая школа, возглавляемая Расселом (Russell 1971) и Хантом (Hunt, 1983), отвергла все теоретические обобщения в пользу рассмотрения Гражданской войны как смешения партикуляристских локальных раздоров, связанных единой пуританской идеологией, которая отстаивала приходскую личную выгоду, хотя и не капиталистическое стяжательство. Рассел и Хант утверждают, что пуританизм лишил королевское правительство легитимности, не создав или не сформулировав нового группового интереса. В результате, антигосударственная коалиция, которая победила в Гражданской войне, распалась, как только новое государство смогло поддерживать порядок, не обращаясь к помощи враждебных пуритан.
Историки делятся по их оценкам характерных черт классовых категорий, которые необходимо выделить для понимания французской политики XVII в. Взгляд на абсолютистское государство как инструмент аристократии чаще всего выражают историки, занятые исследованием Революции, в первую очередь Лефевр (Lefebvre, 1967) и Робин (Robin, 1970), а не те, которые изучают XVI и XVII вв. Большинство марксистских исследователей французского абсолютизма придерживаются мнения о его относительной автономии; в добавление к Поршневу (Porchnev, 1963) и Люблинской (Lublinskaya, 1968) ключевые работы принадлежат Мандру (Mandrou, 1965) и Мориллу (Morill 1978). Немарксистские французские историки также работают в основном с упором на государство, например, Губер (Goubert, 1969-73), Мажор (Major, 1980) и Мунье (Mousnier, 1984). Тем не менее эти историки отвергают какой-либо вид классового анализа и отрицают существование объединенной государственной элиты. Вместо этого, они анализируют государство как смешение «социальных групп» (orders), соперничающих за престиж и власть. Некоторые ученые пытаются вернуть классы в анализ французского государства, чтобы объяснить те сложности, с которыми столкнулись государственные чиновники и часто не смогли преодолеть в своих усилиях контролировать и эксплуатировать гражданское общество (см. у Кастана (Castan, 1974) и Ашера (Asher, 1960) самые выдающиеся примеры этой тенденции).
124
Фулбрук (Fulbrook, 1983) трактует этот случай как пример контраста с Англией.
125
См. в примечании 25 к третьей главе определение «опускания» у Уайта (White, 1992).
126
Обычные поступления короны — доходы с королевских земель, удерживаемых еще со времен до Реформации, таможенные сборы (по которым Парламент голосовал для каждого нового короля на всю его жизнь и которые короли обычно не повышали без дальнейшего одобрения Парламента), попечительства (wardship) и другие феодальные сборы — все тратились на обычные расходы королевского дома и правительства. Таким образом, военные расходы покрывались целиком за счет экстраординарных поступлений.
127
«Паломничество Благодати» рассматривается у Флетчера (Fletcher, 1968, с.21-23), Дэвиса (Davies 1968) и Харрисона (Harrison, 1981).
128
Сейвин (Savine, 1909, с.77) подсчитал, что «чистый доход» от монастырских земель (т. е. общий доход минус стоимость управления поместьями) был равен 135 000 ф. ст. Таким образом, потенциальная стоимость могла быть скорее 2,7 миллиона ф. ст., а не 3,2 миллиона. Документы по поместьям и исторические исследования не дают точного ответа, как, возможно, и сами продавцы и покупатели поместий в XVI в., на вопрос, следует ли рассчитывать цену исходя из общего или чистого дохода с поместий. Абаккук (Habakkuk, 1958) показывает, однако, что цены поднимались до суммы 30-летней ренты к 1560-м гг., из чего скорее всего следует, что в честных сделках учитывалась самый высокий общий доход.
129
Исследование Дитца (Dietz, 1964) правительственных финансов, а также компиляция и анализ Брэддика первичных и вторичных фискальных источников (Braddick, 1994) показывают, что денежные суммы, полученные от аренды и продажи бывших монастырских земель и продажи монастырских сокровищ, как только они приходили в сокровищницу британской короны, не откладывались про запас, чтобы покрывать расходы в будущем. Таким образом, королевские поступления в предвоенные годы (1535-1539) и монастырские сокровища, большая часть из которых была захвачена до 1539 г., скорее всего, Генрих VIII сразу же тратил или раздавал.
130
Я основываю свое утверждение на следующих подсчетах: чистый доход с монастырских земель был 135 000 ф. ст. в год. Корона захватила практически все земли до 1539 г. Если корона целиком получала чистую прибыль с ренты за восемь лет с 1539 по 1547 гг., то это составило 1 080 000 ф. ст., сумму лишь на 234 000 ф. ст. меньше всей, полученной с рент и продаж монастырских земель с 1535 по 1547 гг. Из этого мы можем заключить, что корона сократила свои экстраординарные расходы на 8%, чтобы покрыть дефицит, или одолжила требуемую сумму, особенно если учесть, что финансисты не имели возможности инвестировать наличность в монастырские земли, которые не были выставлены на продажу, если корона не реализовала с их ренты полную потенциальную прибыль.
131
Дитц настаивает практически на том же. Он заключает, что для войны со столь незначительными итогами «Генрих потратил свои ресурсы. Он оставил своему сыну долг... обесценившиеся деньги, и истощенные поместья» (1964, с.158).
132
Кажется, сложно объяснить войну в терминах рационального выбора. Лучшая попытка принадлежит Маргарет Леви (Levi, 1988). Она не утверждает, что война окупается для нации в целом за счет получения колоний и рынков. Вместо этого, она говорит, что война перемещает ресурсы от подданных королям, потому что национальная идея (например, общей национальной идентичности и патриотизма) выковывается во время войны, и вследствие этого война представляет корону как защитника национальных интересов, убеждая подданных платить налоги для поддержки войны. Леви идет дальше и делает предположение, что когда повышается стоимость войны, повышается и способность правителя убеждать подданных оплачивать ее стоимость. Леви не поясняет, почему дорогие войны должны вызывать более сильное чувство патриотизма, особенно если войны ведутся за границей, далеко от взгляда платящих налоги подданных. Леви сравнивает Англию и Францию и утверждает, что более слабая позиция английских королей на переговорах со знатью, вынуждала их идти на уступки, которые повышали способность убеждать или заставлять подданных платить налоги. Французские короли были сильнее и меньше торговались, но из-за этого они также получали меньше добровольной поддержки налогов и за большую стоимость «действенности» (например, сбора налогов). (Основная суть доводов Леви дается ей на с.95-121).
С анализом Леви возникают две значительные проблемы. Во-первых, она просто утверждает, не предлагая доказательств, что дорогие войны вызывают большее желание платить налоги. Во-вторых, она представляет дорогие войны, вызывающие повышение патриотизма, что вызывает повышение сборов налогов, что вызывает увеличение способностей вести войну, что, в свою очередь, ведет к еще большему числу войн и еще более высоким военным расходам, как прогрессивный и непрерывный циклический процесс развития государства, по крайней мере, в Англии и Франции. Однако, как показывает эта глава, войны и вызываемое ими потребление финансов, груз которого ложится на плечи и королей, и их подданных, имеют весьма разные последствия, в зависимости от специфической конфигурации элитных и классовых отношений в каждый отдельный исторический момент. Война 1539-1547 гг. надолго ослабила английских королей; войны привели к крушению монархии, как в Англии в 1640-1649 гг., так и во Франции во время революции. Войны подорвали силы элиты, противницы французской короны, во время Фронды 1648-1653 гг. Во всех этих случаях королей стимулировали к ведению войны расчеты из области внешней и внутренней политики. Войны быстро приводили к неожиданным последствиям во всех этих случаях, лишая возможности как королей, так и исследователей сказать, что война всегда рациональна для саморасширяющихся правителей.
133
Последствия потери духовенством власти над земледержанием и постепенного обретения светскими землевладельцами монополии на юридический контроль над земельными правами на общественные отношения в аграрном секторе рассматриваются в шестой главе. Здесь достаточно указать, что любое возрождение церковной автономии и власти означало потерю светской власти, что создавало заинтересованность части светских землевладельцев в защите королевского примата над английской церковью от нападок со стороны католиков.
134
Гивен-Уилсон (Given-Wilson, 1987, с.55-68 и далее) дает лучший разбор критериев принадлежности к магнатам в предреформационной Англии и их власти.
135
Бирман отличается от прочих тем, что подчеркивает уникальность Норфолка и, исходя из этого, поясняет, насколько его анализ одного графства приложим к другим. Менее систематические исследования других графств (Barnes, 1961; Chalklin, 1965; Everitt, 1966; Cliffe, 1969; Fletcher, 1975; Forster, 1973; James, 1974; MacCulloch, 1977; Morrill, 1974) опираются на общие схемы из модели Бирмана, как и синтезирующие исследования (такие, как Dibble, 1965; Clark, 1977; Everitt, 1969; Fletcher, 1983), предполагая, что он определил суть политических изменений в английских графств от Елизаветы до Карла I.
136
Фулбрук (Fulbrook, 1983) приходит к таким же выводам, сравнивая Англию с Пруссией и Вюртембергом.
137
Тауни (Tawney, 1954), Хилл (Hill, 1963), Стоун (Stone, 1970) и Добб (Dobb, 1947) представляют купцов капиталистами и противопоставляют их абсолютизму. Хилл (Hill, 1972) приближается к взглядам Андерсона (Anderson 1974), говоря, что купцы могли начинать как креатуры монархов, но стали отдельным классом, с интересами, противоположными короне, ко времени английской Реформации. У Бреннера (Brenner, 1993, с.638-644) приводится обзор и критика этой позиции, так же как и ссылки на ключевые работы в этом направлении.
138
Ревизионисты, особенно Конрад Рассел, Джон Морилл и Энтони Флетчер (опять, см. в Brenner, 1993, с.644-647 критический обзор и библиография трудов этих исследователей), если судить по тому восторгу, с которым они указывают все неурядицы, сложносоставные переменчивые союзы и предполагаемые неудачи местных акторов в их попытках поддержать общенациональные коалиции в Британии XVII в., становятся почти постмодернистами. Они утверждают, что так как у революции было много смыслов, то у нее не было смысла вообще, а так как у людей были разные причины выбрать ту или иную сторону в Гражданской войне, этого конфликта нам в принципе никогда не понять.
Примерно в том же ключе Джек Голдстоун (Jack Goldstone, 1991) описывает политические конфликты 1640-х гг. (и большинство революций) как некую судорогу, спровоцированную слишком быстрым увеличением численности населения, которое накидывалось на своих правителей в беспричинных и часто безрезультатных протестах против уменьшения возможностей и сужения личных и классовых перспектив.
139
Стоун (Stone, 1965, с.199-270) говорит, что демилитаризация английского правящего класса и параллельное создание системы военного финансирования зависели от налогов, которые вотировал Парламент, а не от вооруженных людей, мобилизованных магнатами.
140
Я рассматриваю воздействие этих элитных конфликтов на классовые отношения аграрного сектора в книге «От манора к рынку: структурное изменение в Англии, 1536-1640 гг.» (From manor to market: structural change in England, 1530-1640; Madison: University of Wisconsin Press, 1987), с.100-41.
141
См. мой обзор открытий Бирмана ранее в этой главе.
142
См. обзорную таблицу 2.3 по элитным структурам французских провинций перед Реформацией; на указанных там источниках основаны выводы этого абзаца.
143
У купцов и промышленников были средства, чтобы купить городские посты, но они редко могли конкурировать с земельной аристократией за более дорогие должности на провинциальном уровне (Beik, 1985, с.3-55; Dewald, 1980, с.69-112; Harding, 1978; Wood, 1980, с.95-98).
144
См. Major 1966, 1980. Мэджор утверждает, что введение paulette было решающим для ослабления магнатов и создания новой динамики конфликта между короной и платными чиновниками. Однако свидетельства, представленные Бонни (Bonney, 1981) и Паркером (Parker, 1983), показывают, что даже в XVI в. корона защищала претендентов на платные должности, чтобы подорвать власть магнатов. В итоге, введение paulette ускорило, но не начало смещение области элитного конфликта.
145
Беик (Beik, 1985, с.98-116), Бонни (Bonney, 1978, с.237-50), Киттеринг (Kettering, 1986) и Мунье (Mousnier, 1970, с.179-99), все объясняют, как корона создавала сети вокруг губернаторов, интендантов и неофициальных посредников с разными связями и степенью верности короне. Хардинг (Harding, 1978, с.191-99) рассматривает, как корона использовала с теми же целями временных интендантов начиная с 1560-х гг.
146
Так утверждают Девальд (Dewald, 1980, с.69-112), Паркер (Parker, 1980, с.56-95), Тэйт (Tait, 1977, с.1-20) и Киттеринг (Kettering, 1978, с.13-50).
147
Мой анализ французского вертикального абсолютизма в столетие, предшествующее Фронде, в сравнении с развитием английского горизонтального абсолютизма в том же столетии, лишь частично поддерживает концепции трех теоретических направлений, представленных ранее в этой главе. То, как описывает Андерсон абсолютизм —«смещение политико-правового насилия вверх, в сторону милитаризированной вершины» (Anderson, 1974, с.19), вполне подходит для Франции. Там растущая доля прибавочной стоимости изымалась через налоги, а не арендную плату, и даже не имевшие должностей землевладельцы все больше зависели от королевских эдиктов и парламентских решений, когда они хотели повысить арендную плату крестьянам и подчинить их себе напрямую (Dewald, 1980, с.162-201). Большая часть манориальных и феодальных судов магнатов прекратили функционировать к XVI в. Вместо них, землевладельцы и крестьяне шли со своими спорами в провинциальные парламенты или испрашивали мнения губернаторов, интендантов и их помощников. Подход Андерсона гораздо меньше помогает пониманию Англии, где развитие государства определялось единичной возможностью присвоить церковную собственность и власть. Английская Реформация привела к неожиданным последствиям, повысив способности землевладельцев присваивать себе большую часть выплат крестьян и самим регулировать аграрное производство (хотя и через коллегии мировых судей, организованные на уровне графств, а не благодаря своей сеньориальной власти в маноре).
Особое значение, которое придавали Маркс, Энгельс, Добб, Поршнев и Люблинская буржуазии как покупателю государственных должностей и противовесу знати находит меньше поддержки в моем анализе ситуации. Знать в обеих странах и нетитулованные английские землевладельцы в большей степени, чем городские купцы, были покупателями государственных постов во Франции и бывшей церковной собственности в Англии. Более убедительным кажется тезис о том, что английские и французские монархи, стимулируя рынки на землю и должности, помогали развитию интересов буржуазии, а не наоборот, как утверждал Энгельс. Монархи в обеих странах расширяли ряды буржуазии, гарантируя монополии в торговле и мануфактурном производстве (Brenner, 1993; Stone, 1970, с.85-86; Parker, 1983, с.73-81). Однако, многие монополисты были дворянами, а другие пытались породниться с ними через браки. Купцы в обеих странах хотели войти в союз как с аристократами, чтобы защитить свои похожие привилегии, так и с монархами, чьи фискальные требования грозили отнять или перераспределить прибыли с прежде гарантированных торговых концессий.
Наконец, особое значение, которое Тилли и Манн придавали расширению военных и финансовых возможностей государств, упускает из виду разницу ситуаций. Английская корона богатела, получая и тратя доходы с Ликвидации монастырей. Однако она не смогла выстроить бюрократию, способную собирать налоги без содействия Парламента и сборщиков из числа джентри. Английские монархи добились безопасности, разоружив армии конкурирующих магнатов. И напротив, французские короли XVI в. не получили военного превосходства над внутренними конкурентами. Хотя французское «государство» и значительно повысило свои доходы в XVI в., большая их часть собиралась и удерживалась платными чиновниками, чьи интересы были зачастую противными интересам короны. Схожим образом, противопоставление родового и бюрократического режимов, а также двухпалатного и трехпалатного законодательных органов, выдвигаемое Эртма-ном (Ertman, 1997) упускает критические важные черты английской и французской политий. В его работе игнорируется духовенство и Реформация (Горский (Gorski) в своем обзоре 1998 г. работ Эртмана тоже замечает это). В итоге,
Эртман вынужден заключить, что английский Парламент всегда был сильным, и не может объяснить, откуда у него появилась заинтересованность и способность бросить вызов короне. Он также упускает из виду источники королевской политической (в отличие от финансовой и организационной) слабости внутри платных институций Франции и поэтому не может указать, когда у короны менялись возможности действовать внутри страны и за рубежом.
Проблема, с которой столкнулись теоретики этих трех направлений при описании французского и английского абсолютизма, проистекает из того, что им не удалось разглядеть причинно-следственную значимость конфликта между элитами и различий в судьбе духовенства в этих двух странах. Отношения элит создавали возможность для проведения Реформации в Англии и перекрыли ей путь во Франции. Способность английских монархов выстроить горизонтальный абсолютизм происходила от слабости духовенства, а не от возможностей, имевшихся у короны ранее, как абсолютных, так и в сравнении с аристократией.
148
Шестая глава посвящена более расширенному сравнению элитных структур и классовых отношений аграрного сектора в Англии и Франции. Там я концентрируюсь на влиянии структурных различий на капиталистическое развитие; здесь же — на их последствиях для политики и образования государства.
149
Скоцпол (Skocpol, 1979) не рассматривает, как различные положения в государстве создавали зазоры для действий доминирующего класса. Вместо этого она утверждает (с.59), что корона столкнулась с единообразным доминирующим классом, хотя имеющем опору «как в более древних институциональных формах, таких как сеньориальные права и частные должности, так и новых абсолютистских функциях, в основном связанных со способностями государства добиваться военного успеха и оплачивать экономическую экспансию страны (пока налоговые доходы поступали от тех, кто был лишен привилегий)».
150
Кеттеринг (Kettering 1986, с.28-32) пересказывает случаи, когда покровителей покупали.
151
См. данные, подтверждающие эти сравнения, в таблице 5.4 и комментарии к ней в следующей главе.
152
Я рассматриваю взаимодействие королевских фискальных требований и крестьянской экономики в шестой главе.
153
К моменту первого откупа 1726 г., больше трети КГО были мещанами и менее половины дворянами. К последнему откупу до революции, в 1786 г., только одна десятая были мещанами, а две трети дворянами. Этот сдвиг объяснялся в первую очередь тем, что беднейшие мещане были выдавлены из КГО (см. Durand, 1971, с.282-362).
154
См. Hoffman, 1996; Fourquin, 1976; Jacquart, 1974; Peret, 1976; Dontenwill, 1973; Bastier, 1975. Я рассматриваю этот вопрос более полно в шестой главе.
155
Изложение спора между историками-марксистами и ревизионистами по поводу французской революции дано в McLennan, 1981, с.175-205.
156
В этом разделе разбираются элитные конфликты, которые привели к революции, а также то, как французское государство трансформировалось в революционные годы. Я рассматриваю динамику крестьянских восстаний и влияние элитных и классовых конфликтов на классовые отношения аграрного сектора в шестой главе.
157
По теме консолидации государственных финансов см. Dessert, 1984 и Matthews, 1958. Мэтьюз и Бошер (Matthews и Bosher, 1970) разбирают повышение государственных поступлений, доходы с должностей и фискальный кризис 1770-х и последующих годов.
158
Спор о классовом характере «третьего сословия» в Национальной ассамблее и по всей Франции длится уже долго и продолжается до сих пор. Хотя буржуа могли купить должности, которые давали им статус аристократов, и землевладельцы, как аристократы, так и буржуа, применяли схожие стратегии при передаче земли в аренду коммерческих фермерам и при этом пытались навязать крестьянам как можно больше повинностей в процессе «сеньориальной реакции», существовали четкие разделения между элитами, хотя даже члены этих элит были одновременно феодальными и капиталистическими. Финансисты, которые получали доходы только со своего доступа к огромному капиталу, необходимому короне, и со своего контроля над управлением государственным долгом и сбором налогов, были другой элитой, использующей другой организационный аппарат, чем провинциальные элиты с должностями. Аристократическая реакция 1787-1789 гг. была атакой второй элиты на первую; законотворчество третьего сословия в Национальной ассамблее было ответом, благоприятным для первой за счет второй. Законы Национальной ассамблеи, касающиеся феодальных повинностей и землевладения давали преимущество тем, кто владел землей как собственностью, над теми, кто придерживался древних прав на повинности через свои аристократические титулы — т. е. снова благоприятствовали первой элите за счет второй. Собул (Soboul) очень ясно показывает это фундаментальное различие интересов, хотя он устаревшим образом формулирует их в терминах классовых отношений, а не элитных. Наиболее полезное обсуждение этих вопросов содержится у Комнинеля (Comninel, 1987, с.179-207) и Валлерстайна (Wallerstein, 1989, 3:57-112), где дается и обзор ведущихся дискуссий.
159
Rump Parliament, «Охвостье» — насмешливое название Парламента при Кромвеле — Прим. перев.
160
Это ключевое по своей важности открытие принадлежит Комнинелю (Comninel, 1987, с.203-205).
161
События и политические союзы тех лет анализируются у Собуля (Soboul 1974, с.255-449).
162
Конечно, Англия, Франция и Испания (а также Швеция и Россия) выиграли от «внутреннего колониализма». Но здесь я рассматриваю колониализм за пределами Европы.
163
Эти темы являются продолжением центральных (см. третью главу, в которой я задавался вопросами, почему великие города средневековой и ренессансной Европы не стали центрами последующего капиталистического развития и политического объединения и почему элиты городов-государств были сокрушены в XVI-XVII вв. конкурирующими сельскими элитами, способными консолидировать обширные сельские территории и владычествовать над городами в их центре?).
Вопросы, рассматриваемые в этой главе, те же, только вместо городов-государств выступают империи. Упадок империй был сначала экономическим, а у городов-государств начинался с политики. Элиты городов-государств, как я указывал в третьей главе, сохраняли высокую степень экономической автономии и оставались центральными для европейской экономики в столетия после их подчинения политически национальным государствам. Подчинение Испании было скорее экономическим. Большинство элементов империи Габсбургов получило независимость или автономию, напрямую не повлияв на политию испанской метрополии. Только Нидерланды на короткое время получили экономическое превосходство над своим бывшим хозяином.
Мои вопросы похожи на проблемы, которые разбирал Иммануил Валлер-стайн в «Современной миросистеме» (Immanuel Wallerstein. The Modern World-system. 1974, vol. 1). Валлерстайн спрашивал, как Испания стала играть столь важную роль в развивающейся трансатлантической торговле XVI в. и почему она не смогла «выгодно использовать эту роль, обратив ее в свое господство в возникающей европейской миросистеме?» (1974, с.165 и далее).
164
Чаще всего социологи начинают свое знакомство с книги С. Н. Эйзенштад-та «Политические системы империй» (S. N. Eisenstadt. The Political Systems of Empires. 1963) и ею же заканчивают. Подход Эйзенштадта отличается от применяемого в этой главе. Во-первых, Эйзенштадта больше волнуют различия империй (включая и испанскую) как идеального типа от других типов политических систем. Таким образом, он минимизирует вариации среди империй и не дает даже плана или расширенного примера того, как социологам надо строить объяснения особенностей развития каждой отдельной империи. Рассмотрение Испании в этой главе посвящено задаче определения особых комплексов элитных и классовых отношений, которые создали испанскую империю и которые объясняют ее падение. Я использую Испанию и Нидерланды, чтобы сделать выводы от ограниченности образования капиталистического класса в метрополиях империй в Европе раннего Нового времени и не переношу эти выводы на империи всех эпох, как это делает Эйзенштадт.
Во-вторых, Эйзенштадт полагает, что у правителей империй была свобода высокой степени при создании имперского социального устройства, что решало «проблемы размещения, регуляции и интеграции», которые возникают наравне с «дифференциацией и... различными свободно перемещающимися ресурсами» (с.95) при образовании империи. В этой главе, наоборот, показываются четкие границы действенности элит в Испанской империи.
В-третьих. Эйзенштадт уделяет всего несколько страниц (1963, с.333-340) анализу «всеобщего изменения» (т. е. уничтожения империй). Он видит в имперском упадке сочетание «внутренне присущих структурных причин и случайных причин» (с.338). То, что Эйзенштадт подразумевает под структурой, совершенно отлично от моего употребления этого термина. Для Эйзенштадта структура — относительно неизменные социальные отношения и культурная ориентация подданных империи. Правитель и его внутренний круг существуют над и вне структуры по Эйзенштадту. Он утверждает, что правители могут оставаться у власти, пока их требования ресурсов и повиновения соблюдают границы структурной реальности их подданных. Если правитель выдвигает требования, «несовместимые в течение долгого времени» с социальной структурой, или действует таким образом, что позволяет увидеть: правящие элиты «отчуждены от существующих социальных институтов» (с.336), тогда «традиционная легитимация» правителей ослабевает (с.337). Эйзенштадт не объясняет, почему правители проводят резкие изменения в средствах и целях своего правления, за исключением тех случаев, когда правители попадают под «иностранное» или «универсалистское» (т. е. модерное) влияние (с.335). Таким образом, динамика изменения в «Политических системах империй» — внешняя для всех империй. В этой главе я указываю на внутреннюю динамику — конфликт между множественными элитами внутри империи — в качестве объяснения упадка Испанской и Голландской империй.
165
Здесь я выдвигаю оправдание, схожее с представленным в третьей главе в части, касающейся сравнения Венеции и Генуи с Флоренцией. Я надеюсь, что критики из числа историков сумеют отличить среди моих ошибок и упущений, касающихся истории Испании и Нидерландов, раздражающие от требующих пересмотра более широких выводов этой главы и книги в целом.
166
Смотри в табл. 5.4 более детальные данные по доходам правительств.
167
Кастилия, в отличие от некоторых французских провинций, проанализированных во второй главе, никогда не находилась под властью одного магната. Гранды владычествовали в некоторых частях Кастилии. В целом же кастильская поли-тия ближе к паттерну «феодальная система без магната», характерного для средневековой Нормандии и некоторых других центрально-французских провинций, кроме периода гражданской войны, когда Кастилия соответствовала паттерну борьбы магнатов.
168
Обсуждение Кастилии в этом и двух следующих абзацах основано на работах Буша (Bush, 1967, с.44-62), Линча (Lynch, 1991, с.1-94), Пэйна (Payne, 1973, с.31-169) и Филлипса (Phillips, 1979).
169
Арагонские кортесы — яркий пример навязывания аристократами своей воли. Это был самый мощный законодательный орган, противовес монархии в Европе, пока на его место в 1640-х гг. не стал претендовать английский парламент.
Перри Андерсон более удачно описал Испанию как собрание «автаркичных патримоний» (1974, с.71, 60-114 и далее), спаянных в одну империю стратегическими браками и наследством Фердинанда и Изабеллы и их преемниками, чем это сделал Валлерстайн, напирая на отсутствие политического феодализма в Кастилии.
170
Галисия была исключением из этого паттерна. Там церковь сохранила свою собственность. Церковь владела 52% галисийской земли в XVIII в. по сравнению с 18% под ее властью в остальной Испании (Dupla, 1985, с.95). Сильное галисийское духовенство было эффективным противовесом крупным землевладельцам. В результате корона смогла создать союз духовенства, городских буржуа и крестьян, уникальный для Иберийского полуострова, и разоружить и политически ослабить крупных землевладельцев. Корона мало выгадала из этого союза. На самом деле в XVIII в. корона владела меньшей долей земли в Галисии, чем в любом другом регионе Испании (10% в Галисии по сравнению с 30,6% по всей Испании (с.95)).
Идальго и духовенство были основными выгодополучателями от упадка крупных землевладельцев в Галисии. Духовенство, конечно, владело огромной долей земли. Однако постепенно идальго стали получать растущую долю аграрного прибавочного продукта, потому что у них были foros (права обрабатывать землю в обмен на арендную плату, которая никогда не повышалась) и subforos (часть земли, которую держали на правах foro и сдавали в субаренду, плату за которую держатель foro мог повышать) на большую часть церковных наделов, дававшие им право управлять этой землей или сдавать ее в аренду в обмен за выплату фиксированной суммы, ставшей практически номинальной, духовным «владельцам» земли (Dupla, 1985, с.44-126).
Паттерн Галисии показывает баланс элитных и классовых сил в Испании. Корона, войдя в союз с церковью, а не крупной знатью во время включения Галисии в состав монархии в XV в., смогла определить элитные отношения в Галисии и необычную классовую структуру аграрного сектора. Тем не менее корона не смогла разорвать получившийся альянс духовенства и идальго и ослабить галисийскую автономию или извлечь что-либо из этой провинции, за исключением номинальных налогов. С точки зрения короны, Галисия была едва управляемой и столь же неприбыльной, как и все другие некастильские провинции Испании, где доминировала крупная знать.
171
Томсон (Thompson, 1976, с.288) указывает несколько большую долю с налогов, но соглашается с тем, что церковь до 1621 г. принесла в королевский бюджет больше, чем Америка.
172
Корона сумела подчинить себе духовенство, потому что оно было частью транснациональной элиты, возглавляемой римскими папами. Кортесы не предлагали духовенству защиты от союза папства с короной, потому что аристократы больше всех обогатились от упадка духовенства.
173
Эту судьбу кастильских кортесов обсуждает Томсон (Thompson, 1982, 1984).
174
Обсуждение испанского колониализма в Америке в этом абзаце и четырех последующих основано на работах Дэвиса (Davis, 1973), Линча (Lynch, 1992, с.229-347) и Тепаске с Клейном (TePaske, Klein, 1981).
175
Поступления короны в песо даются у Флинна (Flynn, 1982, с.142). Цифры Флинна по суммарному экспорту американских сокровищ были пересмотрены в сторону повышения для периода после 1580 г. Линчем (Lynch, 1992, с.283) при учете увеличения неофициальных перевозок золотых слитков начиная с 1581 г. Цифры для 1656-1660 гг. даются по Линчу (1992, с.270, 283).
Серебряные песо, которые использовали для подсчета американских сокровищ, были равны 272 мараведи и 0,725 дуката, который стоил 375 мараведи. Цифры суммарного королевского дохода взяты из табл. 5.5. Основываясь на них, я оцениваю американские сокровища в 6% от королевского дохода в 1621-1640 гг. против 10,7%, которые дает Камен (1991, с.218), уже цитированный ранее. Камен указывает более высокий процент, потому что он учитывает только кастильские доходы, а не суммарные испанские.
176
Международная торговля и заграничные рынки становились стимулом для внутреннего развития, только когда капитал и труд были свободны для разворачивания в сторону индустрий, нацеленных на удовлетворение международного спроса. Освобождение труда и капитала было побочным продуктом аграрных трансформаций того вида, который пережила только Англия в XVIII в. Испания является контрпримером к доводу Эрика Хобсбаума из его «Кризиса XVII в.» (Eric Hobsbaum. The crisis of the seventeenth century. 1965). Хобсбаум правильно заметил, что мануфактура XVI в. была ограничена, пока кризис XVII в. не привел к установлению контроля над мировыми рынками сначала в руках голландцев, а потом англичан, создав критическую массу спроса, необходимую для промышленного производства. Испания со своими имперскими и американскими колониями имела уровень спроса, достаточный для поддержания некоторых индустрий в XVI в. Однако без структур капитала и производства, какие были в Нидерландах и Англии, Испания не могла воспользоваться преимуществом, которое предоставлял ей спрос в колониях. Вместо этого центры индустрии в империи Габсбургов утвердились в Италии и Нидерландах. Политическая слабость Испанской империи нашла свое отражение в постоянном экономическом подчинении Кастилии политически зависимым от нее территориям. Испанский опыт демонстрирует, что концентрация рынка по Хобсбауму, хотя и являлась одним из необходимых условий для индустриализации, не была достаточным условием.
177
Налог almojarifazgo, установленный на экспорт товаров из Испании в Америку, равнялся 15%, а товаров из Америки в Испанию — 17,5%. Некоторые товары облагались еще более высоким налогом. Трансатлантические перевозчики также должны были платить averia — налог на товары, плывшие на кораблях казенного флота, который якобы шел короне в счет оплаты военного сопровождения. На самом деле этот налог направлялся как на общую стоимость флота, так и на военные эскорты в Атлантике. Он был равен 6% в 1602-1630 гг., затем поднялся до 31% в 1631 г., когда усилились и военная угроза со стороны Голландии, и финансовый кризис в Испании (Lynch, 1992, с.234-241). Оба налога достигали 50% от стоимости товаров, что отпугивало купцов от испанских портов и государственного флота.
178
Суммарный доход включает поступления с Иберийского полуострова и Америки. Поступления из Священной Римской империи, включая Северные (голландские) и Южные Нидерланды, которые шли монарху, включены в суммарный доход до конца XVII в. В доходах XVIII в. эти территории не учитываются. Испания получала очень немногое с этих земель после того, как они бросили вызов контролю Габсбургов во время войны за испанское наследство. Все поступления с этих территорий были потеряны навсегда, когда испанский монарх отказался от своих претензий на Южные Нидерланды, Италию и Германию в пользу австрийских Габсбургов в мирном договоре 1713 г., которым завершилась эта война. В табл. 5.1 учитываются девальвация и частично инфляция переводом серебряного содержания испанских дукатов в английские фунты стерлингов.
179
Советский Союз в последнее десятилетие своего существования может быть еще одним примером такого абсолютного финансового упадка.
180
Эти проценты высчитаны на основе данных табл. 5.4.
181
Рассмотрение хода испано-голландского конфликта в этом и двух следующих абзацах основано на работе Израэла (Israel, 1995). Общее обсуждение войн Испании и ее военной ноши дается у Линча (Lynch, 1991, 1992, 1989), Пэйна (Payne, 1973) и Камена (Kamen, 1969, 1991).
182
Подходящие к конкретному, данному случаю. — Прим. перев.
183
Работа Арриги — наиболее широкое развитие теории миросистем. Он считает, что Валлерстайн следует указанию Маркса «оставить на время шумную сферу [денежного обращения], где все происходит на поверхности и на виду многих у многих, и последовать [за владельцем денег и владельцем рабочей силы] в скрытую область производства... Здесь... мы наконец добудем секрет извлечения прибыли» (Капитал. Т. 1, процитирован в Arrighi, 1994, с.25).
Арриги, вдохновленный Фернаном Броделем, берет на себя другую, хотя и дополняющую задачу. «Проследовать за владельцем денег в другую скрытую область. этажом выше, а не ниже рынка. Здесь владелец денег встречается с владельцем, но не рабочей силы, а политической власти. И здесь, обещает Бродель, мы добудем секрет извлечения тех огромных и регулярных прибылей, которые помогают капитализму процветать и бесконечно расширяться последние пять-шесть сотен лет до и после того, как он уходит в скрытые области производства» (Arrighi, 1994, с.25).
184
Голландские купцы, которых отсекли от наиболее доходных концессий республики и ее империи из-за их слабой политической позиции, были вынуждены инвестировать в возникающие индустрии за рубежом. Это напоминает ситуацию с флорентийским капиталом, вытесненным от должностей под контролем Медичи, государственного долга и титулов к протоиндустриям за рубежом.
185
Нидерландские территории, контролировавшиеся сперва бургундскими епископами, а потом Габсбургами, состояли из Южных Нидерландов, которые сегодня относятся к Бельгии и Люксембургу, и Северных Нидерландов, которые стали Голландской республикой (официально именовавшейся Объединенными провинциями) в XVI-XVIII вв., а сегодня называются Нидерландами (см. обсуждение терминологии в Israel, 1995, с.V).
186
Отсутствие феодализма в Северных Нидерландах сделало коммерциализацию голландского сельского хозяйства менее стремительной, чем это было в Англии. Резкое повышение земельных рент в XVI — первой половине XVII в. не перевел богатство от лишенных собственности крестьян в руки только что получивших власть джентри, как в Англии. Случилось другое — крестьяне вместе с городскими инвесторами и аристократами стали выгодополучателями от роста цен за пахотные земли. Голландские фермы не могли обеспечить достаточно продуктов, чтобы накормить растущее городское население Голландии в ее «золотой век». Дешевое зерно импортировалось с Балтики, а голландские фермеры сконцентрировались на молочных продуктах, овощах и индустриальном сырье. Ренты и доходы с фермы выросли одновременно с повышением спроса от голландских горожан (чьи заработки превышали заработки европейских рабочих) на лучшие продовольственные товары (этот анализ голландского сельского хозяйства основан на данных, приведенных у de Vries, 1974; van Houtte, 1977; van der Wee, 1993, с.47-68).
Победители в процессе укрупнения земли в Объединенных провинциях разнились в зависимости от места. В Голландии большая часть фермерской земли, которую не держали крестьяне, перешла во владение аристократов и буржуа, базировавшихся в городах. Концентрация земли «в руках владельцев, проживавших на расстоянии, породила чисто деловые отношения между сельским населением и феодалом», который видел в земле всего лишь еще одну свою инвестицию (de Vries, 1974, с.39). В «золотой век» богатейшие крестьяне (вместе с городскими торговцами) смогли собрать еще более крупные фермы, скупая землю у финансово стесненных аристократов и бедных крестьян. Городские капиталисты также были основными инвесторами, а следовательно, и основными владельцами новых земель, появившихся в результате крупномасштабных и дорогих проектов по осушению (с.192-202). Трансфер собственности привел к укрупнению участков по всем Нидерландам, хотя доли, которые держали буржуа, знать и крестьяне, различались. Крестьянские держания были ближе к нормальным наделам во Фрисландии, а не в Голландии и Утрехте XVI в. (с.49-73). Крестьянское население выросло в конце XVI-XVII вв. во всех голландских провинциях (de Vries, 1974; Israel, 1995, с.332 – 337).
Городские инвесторы в землю и крестьян разбогатели благодаря высоким ценам, которые платили городские потребители за голландскую аграрную продукцию. Прибыль была вложена в сельскохозяйственные улучшения. Большие затраты на осушение и другие проекты по улучшению оказались плохими долгосрочными капиталовложениями, так как цены на товары широкого потребления, стоимость земли и ее рента стали падать начиная с 1680 г. Тем не менее они обеспечили постоянную основу для отрасли со столь высокой добавленной стоимостью, каким было сельское хозяйство, а также его процветание, которое продолжалось весь XVIII в. — эпоху слабой городской экономики Голландии.
Голландское сельское хозяйство XVI в. — первой половины XVII в. переводило богатство от городских потребителей ко всем землевладельцам. Чрезмерное налогообложение земли по сравнению с городским имуществом налогом verponding на арендную стоимость всей собственности переводило богатство от землевладельцев держателям облигаций. Крупные землевладельцы накапливали богатство в торговле и индустрии и вкладывали некоторое количество денег в землю. Наличие земли не служило признаком элиты в Нидерландах, как это было в Англии. Классовая поляризация и консолидация богатства в аграрном секторе отступали на второй план, так как их по большей части определяла более значимая концентрация богатства и власти в городском торговом секторе Северных Нидерландов. Тем не менее относительное богатство голландцев, последовавшее за падением их вершины европейской экономики в конце XVII в., объясняется по большей части вложениями в «голландскую бережливость» в течение «золотого века».
187
У города Гронинген было «свое собственное суверенное управление. С древности город имел много власти над сельской округой, владея правами на рынок основных продуктов... и его попытки сохранить или расширить свои полномочия часто наталкивались на противодействие представителей села» (T’Hart, 1993, с.75-76). Так как у города была своя автономная администрация, городская элита Гронингена была чувствительна ко всем усилиям сельской аристократии поощрять фракционизм или перетянуть на свою сторону цеха.
188
Правящая элита Амстердама доминировала в правительстве провинции Голландия и в определенной степени всех Объединенных провинций в XV-XVIII вв., поэтому я буду называть эту правящую группу в оставшейся части этого раздела амстердамо-голландской олигархией.
189
® Конфликты между ремонстрантами (менее ортодоксальными протестантами) и контрремонстрантами (строгими кальвинистами) разразились в первые десятилетия XVII в. (Israel, 1995, с.421-505). К этому времени членство в правящей олигархии каждого города и провинции уже зафиксировалось. Претенденты на общенациональную власть и народные силы оживились, когда вспыхнули религиозные конфликты начала XVII в. Однако народные силы были неспособны свергнуть городские правительства, и общенациональные раздоры усиливали элиты каждого города и провинции в их решимости сохранить свою власть в автономных правительствах, менее уязвимых для общенациональных политических сил, подрывая образование сплоченной национальной элиты и мощного национального государства.
190
И Амстердам, и Роттердам — каждый имели свой собственный флот, а Хорн и Энкхёйзен, основные города Северной четверти Голландии, владели третьим. Эти три голландских адмиралтейства никогда не объединялись. Кроме того, у Зеландии и Фрисландии тоже были свои собственные адмиралтейства (T’Hart, 1993, с.39-43).
191
Рассмотрение контроля над голландскими вооруженными силами основано на данных, приведенных у Тхарта (T’Hart, 1993), Израэла (Israel, 1995) и Хейла (Geyl, 1958).
192
Организация и доходы голландской фискальной системы представлены у Тхарта (T’Hart, 1993) и Израэла (Israel, 1995).
193
Амстердам и его союзники сократили размеры своих вооруженных сил, чтобы помешать возобновлению полномасштабной войны с Францией после двенадцатилетнего перемирия, срок действия которого оканчивался в 1621 г. (T’Hart, 1993, с.46-47). Этим решением Амстердам обеспечил устойчивое разделение на Северные и Южные Нидерланды и гарантировал Голландии и самому Амстердаму высокую степень автономии от статхаудера, чье общенациональное правительство было теперь обречено на вымирание. Позже Амстердам заблокировал планы статхаудера вернуть Южные Нидерланды, отняв их у Франции после того, как она ушла в 1674 г. с голландских территорий.
Амстердам подтолкнул республику к войне с Британией в 1652-1654 гг., чтобы добиться для голландских купцов доступа на испанские и другие рынки, которые англичане хотели монополизировать, и в 1655-1660 гг. к вмешательству в англо-испанскую войну, чтобы Амстердам и WIC получили контроль над испанской торговлей и американскими колониями, и ко второй англо-голландской войне 1665-1667 гг. за доступ к Африке в защиту колоний VOC и WIC. Амстердам спровоцировал войну 1672-1674 гг. с Британией и Францией своей коммерческой агрессией и тайными союзами (зачастую заключавшимися амстердамскими дипломатами даже без того, чтобы поставить в известность другие провинции или чиновников республики). Эта третья англо-голландская война завершилась на условиях, выгодных Амстердаму, частично за счет других городов и провинций, которые желали продолжать борьбу в защиту своих интересов. (Эти войны и голландские политические коалиции, которые способствовали или мешали их проведению, проанализированы у Израэла (Israel, 1995).)
194
Голландия платила проценты по своим долгам с 1542 г. до самого конца республики с кратким перерывом в 1581 г. (Israel, 1995).
195
Конечно, попытки пренебречь договорами о соответствии привели к революционной конфронтации между статхаудером и управляющими, так же, как похожие попытки короля атаковать привилегии элит привели к Фронде и революции 1789 г. во Франции и революциям 1640 г. в Англии, и различным переворотам и контрпереворотам, гражданским войнам и бунту чомпи во Флоренции.
Итоги таких революционных конфронтаций выявляли относительную силу каждой элиты и каждого класса в особых структурных обстоятельствах, времени и месте. Так было когда статхаудер Вильгельм IV воспользовался народным про-оранжистским восстанием 1747-1751 гг., чтобы провести чистку чиновников, особенно налоговых откупщиков. Вильгельм V продолжил этот процесс, создав придворную знать, как в других европейских монархиях. Статхаудеры и оранжисты, несмотря на свои успехи в других голландских провинциях, нисколько не продвинулись в вытеснении элит, управляющих в самой Голландии. Там олигархия управляющих удерживала полную власть даже во время французского вторжения 1794-1795гг.(Israel, 1995, с.1079-1121)/
196
К сожалению, имеющиеся данные не позволяют проводить прямое сравнение голландских доходов с британскими и французскими. Данные по Нидерландам — военные расходы, которые во всех европейских странах той эпохи были почти всегда больше государственных. Нидерланды поддерживали морской паритет с Британией и защищались от завоевания Францией, Испанией или Германией, увеличив совместный долг республики и провинций, как уже указывалось ранее, с 10 миллионов гульденов в 1620 г. до 150 миллионов к 1650 г. (Adams, 1994 b, с.340). Все другие европейские державы тоже влезали в долги, чтобы покрывать военные расходы. Однако долг такого масштаба и военную машину, ради которой он создавался, экономике Голландии в этом столетии явно было легче поддерживать, чем ее противникам. Проценты с голландского долга упали с 8 до 4 за первую половину XVII в. (T’Hart, 1993, с.163), значительно ниже выплачиваемых англичанами, не говоря уже о таких банкротах, как французские и испанские монархи.
197
Джулия Адамс (Adams, 1994a) подчеркивает важность семейных ограничений. Она показывает, что на предпринимательских должностях и политических постах вели себя так, чтобы увеличить престиж, богатство и власть семейных династий, а не только главы семьи, который контролировал эти активы в своем поколении. Адамс показывает, как соображения о благе семьи и договоры о соответствии, защищавшие коллективные интересы целых родов элиты управляющих, сперва мобилизовали ресурсы Голландии ради заграничных завоеваний и коммерческого владычества, а затем изъяли эти активы, когда мобильность оказалась заблокирована снизу и даже управляющие стали рантье, вкладывающими свои силы и богатство в сохранение семейного положения на местах за счет маневренности Голландии в международной торговле и европейской державной политике.
Адамс отмечает параллели с системой Медичи во Флоренции и находит много сходства с Англией и Францией (и Европой в целом). Потребуется еще одна книга, чтобы определить, до какой степени забота о благе семьи открывала или сужала стратегические возможности, которые я способен объяснить здесь в терминах динамики элитных и классовых конфликтов и структурных отношений, созданных этой двойной динамикой. В целом я согласен с Адамс, что семейная динамика является чем-то большим, чем структурным переопределением элитных и классовых сил, но я не могу сказать, когда и где динамику семьи и патриархата следует изучать, чтобы объяснить социальные результаты.
198
Книга Хирста (Hirst, 1975) — лучший источник по этому политическому взаимодействию. Хьюз (Hughes, 1987) предлагает хороший обзор современных работ по политике Стюартов. Также см. Russell (1979, с.17 – 22 и далее).
199
Мое рассмотрение процесса и истории огораживаний основано на работах Аллена (Allen, 1992, с.25-36), Тэйта (Tate, 1967), Уорди (Wordie, 1983) и Йеллинга (Yelling, 1977).
200
Парламентские ограничения церковных судов впервые были приняты при малолетнем Эдуарда VI, когда магнаты и меньшие светские землевладельцы поддерживали переворот Уорвика против Сомерсета. Светские землевладельцы поставили Уорвика лордом-протектором с явной целью получить одобрение короны законодательства, усиливающего их контроль над землей, против крестьян. Законы, ограничивающие церковные суды, были частью этого пакета (Cornwall, 1977; Land, 1977).
Хотя малолетство Эдуарда, как малолетство любого монарха, было временем необычной слабости короны, события 1549 г. имели продолжительные последствия, благодаря единству светских землевладельцев в вопросах крестьянского земледержания и неспособности короны подорвать или пересилить это единство, затянувшееся на все правление Тюдоров, Стюартов и даже после них.
201
Крестьянское меньшинство с зафиксированной или «самовольной» рентой концентрировалось в бывших монастырских манорах. Монастыри менее настойчиво, чем светские землевладельцы, привлекали арендаторов после чумы, предлагая землю в обмен на трудовые повинности (и эта земля стала держанием копигольда (см. вторую главу)). Таким образом, много земли в монастырских поместьях оставалось свободной до того, как восстановление численности населения создало спрос на фермы с высокими рентами или трудовыми повинностями. Тогда монастырские маноры смогли отдавать землю на фиксированных условиях или с «самовольной» рентой. Арендаторы на этих манорах страдали от других неудобств, проистекающих от отсутствия сильных манориальных судов, которыми они могли бы воспользоваться для организации сопротивления сеньориальным требованиям. Манориальные суды не действовали и поэтому скоро ослабли или вышли из употребления там, где владелец монастырского манора отказывался сдавать свободные наделы на условиях копигольда. Договоры с фиксированными условиями или «самовольной» рентой заключались напрямую между владельцем монастырского манора и крестьянами, обходя и подрывая действенность манориального суда.
Когда такие монастырские маноры покупались мирянами после ликвидации монастырей, новые владельцы могли легко поднять ренту или изгнать арендаторов, так как им недоставало сильной правовой защиты прочного манориального суда, который мешал другим землевладельцам бесцеремонно избавиться от арендаторов или изменить условия аренды в одностороннем порядке (Kerridge, 1969). Бывшие монастырские маноры были основной сценой быстрых безжалостных изгнаний и огораживаний после Реформации. Примеры этого приводятся у Спаффорда (Spufford, 1974, с.58-93), Хауэлла (Howell, 1983, с.58-77, 147-197) и Финча (Finch, 1956, с.38-76).
202
Была еще одна стратегия, доступная землевладельцу, которому не хватало политической силы выиграть дело по петициям об удостоверении или у чьих копигольдеров были достаточно надежные в правовом смысле документы, позволявшие пережить удостоверение. Землевладельцы в таких случаях пытались получить поддержку у фригольдеров, чтобы бойкотировать манориальный суд.
У фригольдеров были свои основания бойкотировать манориальные суды в XVI в. и последующих столетиях. Вспомним, что фригольдеры объединялись с вилланами в манориальных судах после «черной смерти», чтобы вынудить землевладельцев уничтожить трудовые повинности и сократить денежные платы. Вилланы получили возможность перейти со своих старых позиций в более выгодный статус копигольдера. Фригольдеры получили возможность расширить свои фермы, арендуя землю и не неся дополнительных трудовых повинностей в пользу лорда.
Фригольдеры столкнулись с совсем другой ситуацией в XVI в. и последующих столетиях. Обычное право увеличивало надежность земледержания по фригольду. При манориальном суде землевладельцы могли повышать повинности фригольдеров до определенного предела, но по обычному праву ренты фиксировались на существовавших суммах, которые становились все более номинальными благодаря инфляции. Кроме того, обычное право давало фригольдерам неограниченные права продавать свои земли или передавать их своим наследникам, не платя штрафа. В конце концов, когда плотность населения стала расти в XVI в., в противоположность столетию после «черной смерти», единственная возможность для фригольдера арендовать новые земли возникала тогда, когда землевладелец изгонял копигольдеров.
Так что у фригольдеров были причины объединяться с землевладельцами в бойкотировании манориального суда. Как только землевладелец шел на уступки фригольдерам, он получал их поддержку, разделял крестьянскую общину и мог обращаться к коллегии мировых судей с прошением воспользоваться обычным правом и не возобновлять аренду по копигольду. Конечный результат (если не считать уступки фригольдерам) был такой же, как после удостоверения: копигольдеры теряли свои земельные права, а землевладелец получал полный контроль над своими бывшими арендуемыми наделами (Kerridge, 1969, с.33-35,65-93).
203
Меньшая часть копигольдеров держала маленькие наделы земли во фригольде, которые они сохранили даже после удостоверения. Однако потеря копигольдов обычно сокращала держания этих крестьянских семейств до уровня ниже того, который обеспечивал выживание. Постепенно эти семьи продавали свои земли во фригольде или использовали их как ядро для коммерческой фермы. Конечно, если землевладелец хотел превратить свои держания в пастбище или создать крупную коммерческую ферму, то бывшие копигольдеры и мелкие фригольдеры не могли арендовать достаточно земли, чтобы завести коммерчески выгодное хозяйство, и разорялись или же были вынуждены продать все по низким ценам.
Спаффорд (Spuffordo, 1974, с.58-93) представляет хороший пример того, как удостоверение влияло на крестьянское земледержание.
204
Землевладельцы, желавшие набрать голоса, необходимые для того, чтобы провести насильственное огораживание, имели все основания изгнать даже тех копигольдеров, которые хотели и могли платить за свои держания по рыночной цене.
205
См. табл. 2.3 во второй главе, где представлена связь между структурой элит и классовыми отношениями по французским провинциям.
206
Доля земли, на которой натуральные и трудовые повинности были переведены в денежные выплаты, широко варьировалась во Франции, достигая 33-90% в разных провинциях к 1789 г. Были и более широкие вариации, от нулевого перевода в денежные выплаты до 100%-ного, и по деревням одной провинции (Jones, 1988, с.48-49). Французские историки в своих общих обзорах и локальных исследованиях указывают, что большинство арендаторов Франции к XVI в. платили ренту деньгами, а трудовые и натуральные повинности давали лишь незначительную долю сеньориальных доходов после 1600 г. (Jacquart, 1974; Le Roy Ladurie [i977], 1987; Neveux, 1975, 1980; Venard, 1957).
207
К сожалению, мы не располагаем индексами оптовых или розничных цен при старом режиме во Франции. Ценовой ряд на зерновые в Париже Болана (Baulant) — единственный, который дает согласованно подсчитанные цены для 300 лет. Это точные измерения одного из самых важных товаров потребления для большинства французских семей в эти столетия и лучшая точка отсчета для отслеживания изменений в рентах, зарплатах и государственных доходах.
208
Хоффман (Hoffman, 1994, с.238-239) обнаружил, что доходы короны возросли с 9 000 000 ливров в 1515 г. до среднегодового значения в 421 520 000 ливров в 1780-х гг. Учитывая инфляцию и девальвацию (см. пятую главу), мы получаем реальный рост в 964%. Если мы учтем девальвацию цен на зерновые, то получим рост инфляции на зерновые в 468%. С такими поправками доходы короны все равно увеличились почти вдвое быстрее, чем цены на зерновые.
209
В Иль-де-Франс, провинции, где землевладельцы получали наибольшую прибыль с акра (а часть этой провинции входила в область с наиболее богатой почвой и наибольшей продуктивностью крестьянского труда по всей Франции), доля крестьянского производства, которая шла на королевские налоги, удвоилась с 6% в 1600-1620 гг. до 12% к 1789 г., в то время как сеньориальные сборы снизились с 32 до 20% от крестьянского сельскохозяйственного производства (Dupaquier, Jacquart, 1973, с.172 – 177).
210
Сеньориальные повинности означают ряд натуральных и денежных выплат, а также других повинностей, которые несли крестьяне и другие земледельцы владельцу территории, на которой располагались их хозяйства. Сеньориальные повинности можно было продать или провести отчуждение другим образом, и крестьяне уже несли самые разные типы повинностей в пользу нескольких частных лиц и институций.
Сеньориальные повинности были «правами на пассивный доход». Маркс и марксисты традиционно называют их «феодальной рентой». Оба термина обозначают, что, хотя сеньоры и их представители должны были активно собирать причитающееся им, они могли делать это, никак не участвуя в планировании и осуществлении сельскохозяйственного производства. Другими словами, сеньоры получали эти повинности за счет политической власти над крестьянами и землей, а не благодаря своей экономической активности.
Повинности и по правовому критерию, и концептуально можно отличить от ренты. Рента была прибылью, получаемой с передачи права на обработку земли. Рента была активным доходом в том смысле, что держатели прав на культивацию должны были либо пахать землю самостоятельно, либо прибегать к издольщине, либо организовывать аренду, следя, чтобы земля обрабатывалась. Уровень ренты в конечном итоге зависел от способности арендатора улучшить землю, и от арендодателя или издольщика требовалось, или он мог добиться, чтобы это происходило.
211
Рассмотрение стратегий землевладельца в этом абзаце и двух следующих основано на работах: Dontenwill, 1973; Fitch, 1978, с.181-187; Le Roy Ladurie [1977], 1987; Neveux, 1975; Varine, 1979; Venard, 1957 и Wood, 1980, с.141-155.
212
Буржуа — покупатели земли, возможно, пытались, как флорентийские патриции и «новые люди» эпохи Ренессанса (Emigh, 1997, с.436), диверсифицировать свои капиталовложения, чтобы сократить риски. Европейцы раннего Нового времени не публиковали бюллетени о своих инвестициях, тем не менее мы можем видеть из их практик, что, как и современные инвесторы, они были готовы получать уменьшенные прибыли с некоторых из своих вложений в обмен на уменьшенные риски.
213
Донтенвил (Dontenwill, 1973, с.160) подсчитал, что цены на зерновые выросли вдвое, а ренты с фермерских земель вчетверо в 1630-1665 гг.
214
См. у Маркоффа (Markoff, 1996, с.16-64) анализ сеньориальных повинностей и их восприятие крестьянами, буржуа и знатью накануне революции.
215
Хоффман (Hoffman, 1996, с.35-69) уточняет условия, при которых издольщина и аренда были наиболее прибыльными и наименее рискованными стратегиями. Он отмечает, что землевладельцы, не жившие в своих поместьях, что стало нормой в XVII в., сталкивались с особыми трудностями в поисках управляющих, которым они могли доверять присмотр за коммерческой фермой. Эмих (Emigh, 1997) обнаружил схожее обоснования для перехода на издольщину в Тоскане XV в.
216
Крестьянская самоэксплуатация ведет к неэффективному использованию дополнительного сельского труда, что поощряет увеличение размера семьи и вызывает чрезмерное разделение земли, процесс, который Гирц (Geertz, 1963) назвал «сельскохозяйственной инволюцией». Готовность американцев XX в. бросить работу в корпорации ради надежды начать свой собственный бизнес, не взирая на высокий процент неудач и низкую прибыльность большинства мелких предприятий — другая форма самоэксплуатации, одна из тех, которыми пользуются корпорации — любители увольнять, точно так же, как французские землевладельцы использовали крестьянскую самоэксплуатацию триста лет назад.
Хоффман (Hoffman, 1996, с.51-52) утверждает, что крестьяне хотели обрабатывать какую-то часть земли сами лишь в качестве меры предосторожности против падения зарплаты или роста продуктовых цен. Такая стратегия предосторожности оправдывала, с точки зрения Хоффмана, ренты, которые были бы экономически невыгодными, существуй они на коммерческой основе.
217
Леруа Ладюри (Le Roy Ladurie [1977], 1987, с.66), Невё (Neveux, 1975, с.134-138) и Канон (Canon, 1977) дают свой обзор вмешательства короны в споры между землевладельцами и крестьянами. Case-study одного такого вмешательства короны в классовую борьбу в аграрном секторе можно найти у Луаретта (Loirette, 1975).
218
Чарльзворт (Charlesworth, 1983) собрал впечатляющую коллекцию сельских протестов вплоть до 1548 г. По благодатному паломничеству и другим протестам, которые происходили после 1548 г., я использовал работы Дэвиса (Davies, 1968) и Флетчера (Fletcher, 1968, с.21-47). Эти работы вместе с теми, в которых проводится специальный анализ восстаний в отдельных графствах (я указываю их в основном тексте), — основа рассмотрения в этом разделе.
219
Дэвис (Davies, 1968) провел лучший анализ благодатного паломничества. Он аккуратно доказывает, почему экономическими трудностями нельзя объяснить место и время начала этого восстания, и показывает роль духовенства и лордов в поощрении антикоролевских действий крестьян.
220
Я ограничиваюсь здесь одной Англией. В остальной части этой главы я игнорирую события в Уэльсе, Шотландии и Ирландии.
221
Источники рассмотрения в оставшейся части этого раздела — те же, что и для табл. 6.1.
222
Я даю определение сплоченных элит графств и объясняю их возникновение в четвертой главе.
223
См. Charlesworth (1983, с.8-16), Wordie (1983) и Yelling (1977).
224
В Линкольншире и Дербишире прошло несколько огораживаний, и огороженные приходы в этих графствах стали центрами мятежа. Вустершир не испытал практически ни одного огораживания; мятеж там был реакцией на удостоверения и выселения. Чарльзворт (Charlesworth, 1983, с.16-21, 31-36) дает суммарный обзор причин крестьянских восстаний. Ворди (Wordie, 1983, с.493) показывает темпы огораживания.
225
Сомерс (Somers, 1993) — самый недавний и самый искушенный сторонник довода о том, что пахотные и пастбищные регионы порождают политии разного вида. Она противопоставляет пахотные регионы с открытыми полями, где джентри добились политического господства и использовали свою власть, чтобы контролировать труд и землю крестьян, пастбищным графствам с нерегулярными полями, где слабые землевладельцы были вынуждены делиться властью с крестьянами, организовавшимися через объединенные деревни. Сомерс объясняет развитие политической культуры, которая благоприятствовала возникновению понятия гражданства в смысле политического и социального благосостояния. Она обнаружила, что такие культуры не развились в регионах с открытыми полями, где джентри контролировали политику и определяли экономику на уровне графств, в отличие от регионов с пастбищами и нерегулярными полями, где понятие деревенской общины, сформированное в борьбе с землевладельцами, трансформировалось в «гражданство» в XVIII-XIX вв. Крестьяне и безземельные работники в пахотных регионах категорично не одобряли политику и право. В пастбищных регионах, где было сконцентрировано сельскохозяйственное производство, крестьяне и растущее число промышленных рабочих отстаивали древние деревенские права и выдвигали требования нового рабочего класса в контексте своего коллективного участия в деревенских и других политических институтах.
Сомерс, в отличие от Голдстоуна и его последователей, смогла определить механизмы, отвечающие за выбор времени и масштаба способностей различных акторов реализовывать свои интересы. Она делает это, отслеживая историческое развитие политических институтов и культур, а не только указывая на обязательную связь между демографическими циклами и аграрными системами производства, определяемыми типом почвы. Выводы из работы Сомерс, хотя она и посвящена возникновению классовой политики и демократических институтов и фокусируется на XVIII-XX вв., сочетаются с моделью, которую я представляю. И Сомерс, и я рассматриваем политику в институциональных терминах, объясняя взаимоотношения между властью и формами производства как результат исторически обусловленной цепи событий, а не простого доведения до максимума индивидуальных или групповых интересов в отдельный момент времени.
226
Франция слишком обширна, и ее крестьяне были слишком мятежны, чтобы позволить указать единственный источник, как в исторической географии Чарль-зворта (Charlesworth, 1983) относительно английских протестов на протяжении нескольких столетий. Рассмотрение в этом разделе основано всего на трех всеобъемлющих и систематических количественных анализах старого режима и революционных протестов. Лемаршан собрал наборы данных по насильственным протестам в 1661-1789 гг. Он представил результаты этого исследования в одной-единственной статье (Lemarchand, 1990). Я благодарен Маркоффу за то, что он указал на эту статью в своей работе (Markoff, 1996).
Лемаршан представляет немногочисленные, хотя критически важные, количественные результаты. Лемаршан, несмотря на краткость публикации, предлагает существенные и систематические поправки к обширным, но при этом несколько импрессионистическим работам Чарльза Тилли о французских раздорах. Лемаршан прямо оспаривает тезис Тилли, который продолжает и развивает большинство социологических споров о Франции раннего Нового времени, тезис заключается в следующем: государство занимает место землевладельцев в качестве основной мишени крестьянских протестов в столетия между Реформацией и революцией. Тезис Тилли также подрывают два других количественных исследования, Вовеля (Vovelle, 1993) и Маркоффа (Markoff, 1996). Вовель рассматривает различные формы революционных действий, распределенных по географическому принципу, выявляя их корреляцию с плотностью населения, размерами семей, грамотностью, показателями развития и классовыми отношениями в аграрном секторе. Маркофф представляет обширный набор данных по протестам во время революции, которые он коррелирует со своим анализом по Cahiers de Doleances (наказы избирателей — списки жалоб. — Прим. перев.) всех трех сословий, показателями рынков, государственной власти и сеньориальной реакции.
Выводы обоих, Вовеля и Маркоффа, согласуются с Лемаршаном и противоречат Тилли, так как они обнаружили, что антифеодальные и голодные бунты против землевладельцев и их представителей, а вовсе не налоговые протесты против государственных чиновников, оставались наиболее частой формой во время революции, то есть то же, что Лемаршан показал для десятилетий перед 1789 г.
227
Тилли (Tilly, 1986) указывает на снижение насилия и убийств в спорах при старом режиме. Коллинз (Collins, 1988, с.194-213) обнаружил, что налоговые протесты в эпоху после Фронды в основном заключалисьв отказах платить налоги, а не в нападениях на чиновников. Королевские войска отвечали захватом зерна и скота, а не убийством протестующих. Беик (Beik, 1985) обнаружил сокращение насилия в действиях провинциальных элит, короны, крестьян и городских жителей после Фронды. Бернар (Bernard, 1964) отследил наиболее значительные восстания после Фронды и обнаружил уменьшение их в масштабе и применении насилия после 1675 г.
228
Данные Вовеля (Vovelle, 1993, с.297-344) указывают на схожие выводы. Он обнаруживает сильную корреляцию между плотностью распределения по территории почтовых служб, плотностью населения, урбанизацией (все три показателя вместе он связывает с рынками) и революционными действиями. Вовель заключает, что рынки, в капиталистическом или феодально-реакционном виде, провоцировали революционные действия.
229
Маркофф обнаружил, что антиналоговые протесты концентрировались на западе. «Революция скорее переместила налоговое бремя из одних областей в другие; те регионы, которые пострадали [и которые были самыми привилегированными провинциями при старом режиме], что неудивительно, стали центрами контрреволюции на западе» (1996, с.350).
230
Скотт (Scott, 1976, 1985), конечно, отрицает, что протесты, которые он исследовал, были неэффективными. Однако почти все свои усилия он направляет на изучение культурных основ протестов, не уточняя их влияния на социальные отношения.
231
Выводы Маркоффа расходятся с классовым анализом Бреннера и моделями региональной экологии, которые представляют крестьянские общины идеального типа как реальность.
232
Это основной вывод и главное открытие прекрасной книги Маркоффа.
233
Уайт (White, 1962, с.39-78) представляет хронологию изобретения новых агрикультурных техник в Европе. Но и Аллен (Allen, 1992, с.107-149), и Хоффман (Hoffman, 1996, с.165-166, 202) предупреждают, что большая часть повышения урожайности объяснялась ранними, относительно дешевыми инновациями, в то время как более дорогие улучшения, такие как осушение, ирригация и огораживание, отвечали максимум за одну пятую от всего повышения урожайности.
234
Аллен (Allen, 1992, с.131-133) отмечает, что фермеры в Норфолке, некоторые производители Франции и Фландрии, а также всего бассейна Нила уже получали 20 бушелей с акра в XIII в. (что касается Нила, «возможно, также было и в древности» — с.133). Эти исключения объясняются чрезвычайным обилием почв, которые обрабатывали интенсивно с использованием труда необычайно высокого уровня. И в самом деле урожайность в Норфолке, Франции и Фландрии сократилась после чумы в связи с переходом на менее интенсивную обработку из-за потерь в рабочей силе.
235
Урожайность для других культур тоже удвоилась. «Урожайность ячменя и бобов была такой же, как для пшеницы; овса производили 15 бушелей с акра» (Allen, 1992, с.131), а «урожайность ржи примерно удвоилась» (с.208).
236
См. данные по распространению и усвоению новых агрикультурных техник во Франции у Хоффмана (Hoffman, 1996), в Англии у Аллена (Allen, 1992), и у Дефриса по Нидерландам (de Vries, 1974).
237
Я рассматриваю модели демографических детерминистов и их критиков, особенно Роберта Бреннера, во второй главе.
238
Читателей может удивить, что в этой главе не придается особого значения региональным различиям в данных двух странах. Некоторые исследователи продолжают подчеркивать различия между пахотными и пастбищными регионами Англии. Тирск (Thirsk, 1967, 1984) и Голдстоун (Goldstone, 1988) — в числе тех, кого наиболее часто цитируют социологи. Бейкер, Батлин (Baker, Butlin, 1973) и Аллен (Allen, 1992), которые различают «три природные области» — сильнопахотные (heavy arable), слабопахотные (light arable) и пастбищные,—дают детальный анализ вместо более простого и менее точного двойного деления, предлагаемого Тирском и Голдстоуном.
Тирск и Годдстоун утверждают, что условия феодального земледержания и позже развитие капитализма или его отсутствие были результатами усилий повысить урожайность и прибыльность земледелия на разных типах почв в контексте демографических циклов. Я даю свой анализ и критику анализа региональной экологии Джека Голдстоуна (Goldstone, 1988) во второй главе. Важно отметить, что Голдстоун избирателен в своем отношении к трансформациям, которые он признает за таковые, и поэтому неспособен объяснить, почему джентри и крупные коммерческие фермеры разбогатели, а столь многие крестьяне лишились земли и обнищали в XVI в. и последующих столетиях, хотя новые агрикультурные техники повысили продуктивность как на крупных, так и на мелких фермах (Allen, 1992, с.191-231).
239
Безусловно, некоторые почвы были лучше других. Тем не менее по всей Европе была возможность резко повысить урожайность, поднявшись далеко над средневековым уровнем. В 1997 г. урожайность зерновых в Англии и Франции, соответственно 101,9 >и101,1 бушеля с акра, превышала средневековый уровень в 10 раз. Само равенство урожайности в Англии и Франции опровергает утверждение Голдстоуна (Goldstone, 1988) о том, что только в части Франции были условия, которые позволили всей Англии сделать такой шаг вперед. Другие европейские страны, никогда не инвестировавшие столько в сельскохозяйственные улучшения, как Англия и Франция, тоже смогли поднять урожайность далеко над средневековым уровнем: в Италии — 69,6 бушелей с акра, в Испании и Польше — 42,0 и 43,4 соответственно (урожай 1997 г. из справочника «Производство зерновых и риса в намолотом эквиваленте, в тоннах» («Cereals, rice milled equivalent, metric tons produced»), Статистическая база данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН [http:www.fao.org]).
Таким образом, все почвы Европы способны дать урожай выше средневекового уровня в 10 бушелей с акра. И тогда возникает вопрос: почему жители северо-западной Европы смогли использовать имевшиеся в раннее Новое время технологии, чтобы сделать шаг вперед, а другие европейцы не смогли?
240
Валлерстайн (Wallerstein, 1983) переводит этот момент на теоретический уровень. Анализ и различные case-study организации и продуктивности труда в аграрном секторе по Англии см. Howell (1975, 1983), Kussmal (1981), Spufford (1974), Thirsk (1957), Wrightson, Levine (1979) Yelling (1977). По Франции общий обзор дается в работе Neveux (1975). Ряд case-study, которые показывают ограниченность сельскохозяйственных инвестиций, инновации и улучшения во Франции, можно найти в трудах: Bois ( [1976], 1984), Dontenwill (1973), Gruter (1977), Leon (1966) (особенно главы, написанные Sabatier и Guichard), Peret (1976), Venard (1957, с.63-68 и далее).
Дефрис (de Vries, 1974) дает лучший обзор голландского сельского хозяйства. Он показывает, что инвестиции в улучшения делали семейные фермеры, владевшие своими фермами или арендовавшие их по надежным договорам, и работавшие на земле самостоятельно, используя наемный труд в ограниченной степени.
Италия и Испания представляют отрицательный пример. Вспомним, что в Италии Ренессанса в фермы мало инвестировали и их мало улучшали, за исключением Ломбардии, потому что там коммерческие фермеры смогли де-факто добиться бессрочной аренды церковных земель за фиксированную ренту. Такие бессрочные держания оправдывали инвестиции в ирригацию и новые культуры (в основном шелк). В Испании постоянный феодальный контроль и трудовые повинности также мешали инвестировать в улучшения (Davis, 1973, с.143-156; Dupla, 1985, с.44-126; Kamen, 1980, с.226-259; Lynch, 1992, с.1-16; Vilar, 1962).
241
Ошибочное убеждение Артура Янга (см. A Six Month’s Tour Through the North of England [London, 1771]) разделяет большинство историков и социологов, как марксистов, так и немарксистов, писавших об истоках английского аграрного капитализма. Вот почему труд Аллена (Allen, 1992) такая важен и вот почему мне необходимо представить его открытия в деталях.
242
Демографические детерминисты тоже могут предсказать время и масштаб падения заработной платы, так как наиболее резкое падение было в период быстрого роста численности населения, а медленное повышение началось, когда рост численности замедлился. Демографическая модель неспособна объяснить, почему низкая стоимость производства продовольствия не обогатила ни потребителей, ни коммерческих арендаторов, которые вложили в улучшение земли капитал и которые применяли наемный труд. Только те модели, прослеживающие распределение и использование власти, могут объяснить, почему все эти выгоды попали в руки землевладельцев, у которых были политические рычаги, чтобы осуществлять контроль над землей, рентами и тарифами, а также определять мобильность и место проживания работников.
243
Тирск (Thirsk, 1967, 1984) и Голдстоун (Goldstone, 1988) также разделяют взгляд тори, хотя и с оговоркой, что занятость увеличилась лишь на пахотных землях, а в пастбищных регионах бывшие сельскохозяйственные работники стали торговцами.
244
Здесь прослеживается параллель с моделью демографического детерминизма, о которой говорилось выше: демографические циклы масштаба континента не могут быть привлечены в качестве объяснения изменений в сельском хозяйстве, которые произошли в одной части этого континента и не произошли в другой. Роберт Бреннер очень красноречиво это показал, хотя его собственная модель неадекватна по причинам, которые я специально обсуждал во второй главе и которые в более общем виде постоянно всплывают на страницах этой книги.
245
Милитаристская политика абсолютистской монархии соединилась со стремлением купцов организоваться и тенденцией парижского рынка реорганизовать французскую транспортную сеть. Географическая близость к Парижу или торговым сетям стала важнее, чем доступ к водным путям. Границы «другой Франции» Фокса (Fox, 1971) сместились, когда деятельность государства и купцов втянули некоторые регионы во французское ядро, оставив другие, которые некогда использовали водные пути для создания коммерческих сетей с центрами в провинциальных городах, изолированными островками.
Хечтер и Брустайн (Hechter, Brustein, 1980) нарисовали более комплексную карту трех региональных способов производства. Они заявляют, что социальная структура каждого региона была сформирована уже в XII в. Они также утверждают, что государства образовались в феодальных регионах потому, что знать в этих регионах научилась извлекать больше прибавочного продукта, чем землевладельцы в регионах с оседлым животноводством и мелким сырьевым производством. Теория Хечтера и Брустайна эссенциалистская: она анализирует образование государства (или развитие капитализма) как следствие фиксированного набора причин. Их модель не оправдывает ожиданий, потому что не учитывает, как на протяжении столетий элитные и классовые конфликты изменяли аграрный строй каждого региона. Капиталистическое развитие и образование государства — это процессы, а не следствия чего-либо. Их нельзя предсказать исходя из набора причин, наблюдаемых за несколько веков ранее. Вот почему наиболее развитые французские регионы в XVIII в. были не все теми самыми регионами с наиболее благоприятными природными условиями или наиболее прогрессивной социальной структурой Средневековья.
246
В этом выводы Хоффмана по Франции почти повторяют выводы Аллена по Англии.
247
Рассмотрение стратегий землевладельцев в этом и следующих десяти абзацах основано на работах: Hoffman (1996), Le Roy Ladurie (1975, [1977], 1987), Venard (1957), Jacquart (1974), Neveux (1975), Dontenwill (1973), Gruter (1977), Meyer (1966), Mireaux (1958), Peret (1976), Saint-Jacob (1960), Vovelle, Roche (1965), Wood (1980).
248
У Леруа Ладюри (Le Roy Ladurie [1977], 1987), Невё (Neveux, 1975), Морино (Morineau, 1977), Донтенвилла (Dontenwill, 1973) и Пере (Peret, 1976) приводятся разные данные о повышении ренты, что отражает различия в регионах, которые они исследовали. Однако они все согласны в том, что ренты повышались, чтобы учесть инфляцию при каждом возобновлении арендного договора, в то время как повышение продуктивности не всегда отражалось в новых арендных договорах. Хоффман (Hoffman, 1996) уверен, что землевладельцы могли отслеживать улучшение продуктивности, что, как он утверждает, отражалось на повышении рыночных цен за аренду земли при краткосрочных договорах, на один-два года. Неважно, насколько бдительны были землевладельцы в отношении улучшений продуктивности, они были вынуждены отказываться от таких доходов в пользу длительной аренды. Арендаторы, которые с большей вероятностью проводили улучшения, были крупными арендаторами, способными потребовать себе долгосрочных договоров, и тем самым отложить тот момент, когда им приходилось делиться выигрышами в продуктивности с землевладельцами.
249
Английское духовенство тоже проворачивало дела за счет своих институций. Эта коррупция прекратилась, когда церковные земли, захваченные во время Реформации, были проданы светским владельцам. То, что во Франции подобных экспроприаций и продаж не проводилось, позволило коррупции духовенства продолжаться до самой революции.
250
Этот паттерн крестьянских восстаний сходен с английским, рассмотренным ранее в данной главе. Там, где джентри оставались неорганизованными в XVII в., что частично объясняется отсутствием в поместьях и уничтожением магнатов, способность землевладельцев повышать ренту или бороться с традиционными крестьянскими правами на землю была ограничена. Схожим образом во Франции богатые крестьяне и коммерческие фермеры (эквивалент фригольдеров и копигольдеров с надежными договорами) смогли утвердить свое droit de marche (право занимать землю по традиционным рентам) или практиковать mauvais gre (коллективные действия против повышения землевладельцем рент или борьба новых арендаторов за свои фермы), там, где они сталкивались с неорганизованными или не живущими в поместьях землевладельцами. Ренты застывали на традиционном уровне в тех регионах Франции и Англии, где сталкивались сильные крестьяне и слабые землевладельцы.
251
«Наиболее тщательное рассмотрение вопросов... показывает, что надо было иметь 10 га (или примерно 25 акров), чтобы поддерживать семью, кормить скот и платить все требуемые налоги, даже на самых плодородных почвах Парижского бассейна» (Hoffman, 1996, с.36). Хоффман (с.40) и Жакар (Jacquart, 1974, с.165-166) оба делают вывод, что большая часть дохода у 3/ 4 всех семей зависела от того, что они получали от наемного труда. Невё (Neveux,198o), Дюпакье, Жакар (Dupaquier, Jacquart, 1973), Сабатье (Sabatier, 1966) и Гишар (Guichard, 1966) обнаружили, что от 2/3 до 90% семей в тех регионах, которые они изучали, стали зависеть от своего наемного труда к XVIII в.
252
Альтюссер и Балибар (Althusser, Balibar [1968] 1970, с.106) вывели этот вопрос на абстрактный теоретический уровень. «Только в рамках специфической целостности сложной структуры мы можем осмыслить так называемое запаздывание, ранний старт, устойчивость и неравномерность развития, которые сосуществуют в структуре реального исторического настоящего». Я привел эту цитату, чтобы показать, что любое частное развитие капитализма или государства, или любого другого социального явления можно понять, только рассматривая его как продукт продолжающейся социальной борьбы, которая определяет и переделывает социальные структуры в никогда не заканчивающемся процессе исторического изменения.
253
Внедрение новшеств индустриальной революции: машин, удобрений, пестицидов и семян вызвало второй крупный скачок урожайности, одновременно драматическим образом сократив трудозатраты в конце XIX — начале XX в. Эта вторая аграрная революция выходит за рамки рассмотрения данной книги.
254
Исследование миросистем Иммануила Валлерстайна (Wallerstein, 1974-1989) зиждется на основном открытии Хобсбаума и особо касается динамики третьего источника спроса и его влияния на развитие капитализма в ядре его зарождения, а также по всей миросистеме.
255
Аллен (Allen, 1992, с.211-262) прослеживает упадок занятости в сельском хозяйстве в XVII-XVIII вв. в абсолютных значениях, а также увеличение суммарной продукции. Аллен показывает, что землевладельцам доставалась целиком вся прибыль от улучшения продуктивности. Продовольственные цены не снижались, а заработная плата не повышалась. Аллен утверждает (с.263-280), что прибыль в сельском хозяйстве выбрасывалась на ветер, так как землевладельцы направляли ее на роскошь и вкладывали в улучшения, особенно в перевод пахотной земли в пастбища, что не давало поступлений, сравнимых с такими крупными затратами. Каррутерс (Carruthers, 1996) показывает, что прибыли землевладельцев также инвестировались в государственные долги и доли в акционерных компаниях, что косвенным образом снижало стоимость капитала для предпринимателей, которые создавали продуктивную индустрию, а также поддерживало военные кампании, что вело к завоеванию иностранных рынков для этих отраслей индустрии.
256
Аллен (Allen, 1992, с.303-311) предполагает, что если бы джентри не присвоили себе земельных прав йоменов, то заработки в сельском хозяйстве в XVIII в. могли бы повыситься на 67-100%. Если бы заработки выросли так высоко или если бы у йоменов было больше земли, то тогда фермеры и батраки смогли бы получить больше плодов с аграрной революции. Хауэлл (Howell, 1975, 1983) показывает, что йомены с частной собственностью на землю стали бы ограничивать рождаемость, так, чтобы землю можно было бы передавать, не деля на части, единственному наследнику, а денежные накопления переходили бы ко второму наследнику (в виде приданого для дочери или инвестиций в ремесло для второго сына). В некоторых частях Англии, где у крестьян было больше доступа к земле, хотя и на менее надежной основе, коэффициент рождаемости был выше, как и во Франции и по всей Европе. В Британии наибольший коэффициент рождаемости был у безземельных, чье растущее число держало их на зарплатах, близких к прожиточному минимуму. Победа джентри над йоменами и их контроль над безземельными способствовал «первичному накоплению», необходимому для последующего промышленного капитализма.
257
Вебер никогда не объяснял, почему социальные группы выбирали, остаться ли им католиками или присоединиться к той или иной протестантской церкви, хотя в «Древнем иудаизме», «Религии Китая» и «Религии Индии» он формулирует структурные объяснения различий в групповой приверженности какой-либо конфессии.
258
Мои доводы расходятся по основным вопросам с теорией модернизации, в правильности которой я сомневаюсь, и, как я полагаю, мне удалось продемонстрировать, что очень редко предоставляется возможность действия в направлении модернизации или каком-либо еще направлении. Леви, Эйзенштадт, Парсонс и их последователи исходят из принципа, что если есть стремление, то есть и путь, и они видят стремление модернизироваться и, соответственно, модернизацию в большей части мира.
259
Критику позиции Коллинза я представил в третьей главе.
260
Розмари Хопкрофт (Rosemary Hopcroft, 1997) представляет другую причинно-следственную связь. Она утверждает, что «рационалистические религии обычно получали поддержку в областях, характеризующихся наличием прав собственности на землю и несильным общинным контролем над агрикультурой» (с.158). Опыт ответственности за собственную судьбу, испытанный в сельском хозяйстве, как полагает Хопкрофт, подготовил фермеров к аскетизму и рациональности протестантизма. Заслугой работы Хопкрофт является то, что она поместила религиозное изменение в контекст более широких изменений в социальных отношениях аграрного сектора. К сожалению, Хопкрофт не занималась вариациями внутри протестантизма и католицизма и не объясняет, как люди использовали новое религиозное мировоззрение для осмысления своих социальных интересов и разработки планов действия.
261
Другие исследования, в которых магия увязывается с народным радикализмом и обнаруживается классовый интерес в подавлении колдовства, это: Delumeau 1977, ([1971], 1977, с.161-174), Joutard (1976, с.59-90), Julia (1974) и Mandrou (l968).
262
Нахман Бен-Йехуда (Nachman Ben-Yehuda, 1980) следует за Гинзбургом и Мушембле, видя в судах над ведьмами медиатор глубоких социальных конфликтов, но отличается от них в том, что описывает эти суды как проявление «социальной тревоги», а не классового конфликта. Бен-Йехуда утверждает, что основными преследователями ведьм были католические инквизиторы, которые таким образом реагировали на ослабление авторитета церкви и видели в кампании против ведьм средство продвинуть свои специфически институциональные интересы, а не общеклассовые. Инквизиторов поддерживало население, которое тревожилось из-за разрушения средневекового общинного уклада. Крестьяне, разозленные нарушениями традиционных обычаев, обратили свой гнев на одиноких женщин, чья сексуальная свобода и занятость в наемном труде делали их символом вызова деревенскому уклады, основанному на семье, и легкой жертвой для объявления ведьмой. Схожим образом Алан Макфарлейн (Alan Macfarlane, 1970) видит в ведьмах нарушительниц традиционных стандартов благотворительности, гостеприимства и социального достоинства в крестьянских общинах, а не представительниц классовых интересов народа. Работу и Бен-Йехуды, и Макфарлейна можно считать критикой теории модернизации, так как оба выдвигают гипотезу, что модернизация вызывает тревогу, которая выражается в возобновлении веры в магию и готовности сражаться с ведьмами через традиционные социальные механизмы, а не в отвержении подобных иррациональных верований, как это предписывают теории рационализма.
263
Стратегия гугенотов, институализация протестантизма через отстаивание местных привилегий — это то, что противоречит предсказаниям модели Вутноу, который видит в монархах необходимых защитников протестантов от католических землевладельцев.
264
Масштабы казней в Восточной Европе сравнимы с французскими, хотя Женева приближалась по этому показателю к Англии. Конечно, эти данные не отражают мнения тех, кто был обвинен в ведовстве, но они на это и не претендуют. Из ограниченного количества доступных источников следует, что освобождения еще до вынесения приговора случались в Англии чаще, чем на континенте, и были очень редки в немецкоязычных областях, наводя на мысль, что число проведенных казней было даже меньше, чем 15% в Англии, и, возможно больше, чем указывают формальные данные в немецкоязычной Европе. Франция снова оказывается между этими двумя крайними случаями.
265
Джентри добивались «плотного» политического господства в графствах, когда: 1) происходило резкое повышение доли маноров, которые контролировали джентри, а не король, духовенство и магнаты; 2) доминирующий магнат или магнаты больше не были способны использовать вооруженную силу или свой патронат, чтобы запугать мелких землевладельцев и включить их политическую машину, которую они вели; и 3) общее число членов в графских коллегиях мировых судей увеличивалось, и большинство становилось локально, а не общенационально или смешанно ориентированным.
Контроль над манорами в большинстве графств перешел к джентри ко второй половине XVI в. (Stone, 1984, с.181-210). Эссекс и Кент выделялись по второму и третьему критерию. Эти два графства вместе с Норфолком и Суффолком были в числе первых, где Елизавете I удалось уничтожить власть магнатов. Однако в Норфолке и Суффолке джентри не образовали спаянного блока до начала XVII в., в то время как в Эссексе и Кенте джентри с местной базой и несильной связью с королевским судом начали доминировать в коллегиях мировых судей в 1560-1570-х гг. (по Эссексу, см. Hunt, 1983; Chalkin, 1965; Clark, 1977; по Кенту — Everitt, 1969; по Норфолку и Суффолку — MacCulloch, 1977 предлагается лучший анализ хаоса XVI в. и объединения джентри в XVII в. в этих двух графствах. Предшествующую дискуссию по поводу «плотности» джентри см. Lachmann, 1987, с.84-100, 128-134).
266
Источники для обзора в этом и трех следующих абзацах отношения светских элит к реформам католической церкви и усилий духовенства преобразовать религиозные верования и практики мирян следующие: Julia, 1973; Delumeau [1971], 1977, с.65-83; Hoffman, 1984, с.71-97 и далее; Dhotel, 1967; Perouas, 1964, с.222-286; Ferte, 1962, с.201-369; Shaer, 1966, с.134-180; Croix, 1981, с.1155-1246.
267
Перевод с французского на английский принадлежит самому Ричарду Лахману. — Прим. перев.
268
Трудность оценки капитализма как общеевропейского явления, которое предшествует Реформации в некоторых существенных аспектах, рассматривается во второй главе.
269
Рональд Берт имеет в виду примерно то же самое в своих «Структурных дырах» (Robert Burt, Structural holes, 1992), когда утверждает, что социальные акторы определяются по их структурной позиции в сети, а не по их атрибутам. «Проблема в том, что связь между атрибутами и социальным меняется в зависимости от того, о какой группе населения идет речь, и с течением времени. Как часто меняется эта связь и насколько она меняется — это эмпирический вопрос. Главное то, что эта связь не причинно-следственная. Это корреляция... идиосинкразическая к тому, когда и где были проведены наблюдения для анализа» (с.189).
Берт идет дальше, заявляя: «Чтобы избавиться от атрибутов, нужны концептуальные и исследовательские инструменты, дающие возможность смотреть мимо того, как атрибуты участника ассоциируются со значительными структурными формами, и тогда увидеть сами формы. Результатом будет более сильная, более кумулятивная теория и исследование. Аргумент структурной дыры [который Берт и разрабатывает в своей книге] нагляден» (с.193). Я утверждаю, что теория элитного конфликта, представленная в этой книге, — это еще один способ избавиться от чрезмерной концентрации на атрибутах.
270
Чарльз Кёрзман (Charles Kurzman, 1996) утверждает, что участники социального действия часто воспринимают возможности для революционного изменения, которых на самом деле там нет, если основываться на анализе Токвиля структурных возможностей. Он приводит в пример иранскую революцию 1979 г. и говорит, что в таких случаях революционеры достигают успеха, потому что много людей действуют исходя из их восприятия. Я обнаружил, рассматривая революционные ситуации, о которых идет речь в данной книге, что неэлитам не нужно определять границы силы «государства», пока они могут держаться в союзе с элитами. Структура, которая анализировалась здесь, связанная с Европой раннего Нового времени, и та, которую Кёрзман и другие анализировали в Иране и других случаях современности, — это совокупность элитных отношений, а не только государство.
271
Революции XX в. (русские, китайские, никарагуанские, антиколониальные и в Восточной Европе 1980-х гг.) отличаются от своих аналогов в прошлых столетиях тем, что они начинались, имея перед собой ясную цель уничтожить или сменить государство. Однако они все равно были побеждены союзом элит и неэлит, и их результаты определил двойной эффект элитной и классовой борьбы.
272
В этом слабость модели миросистем, разработанной Валлерстайном и его последователями. Они не признают, что центральные социальные структуры могут порождать и поддерживать барьеры перед внешним влиянием на внутренние элитные и классовые отношения, которые не зависят от сдвижек в динамике самой миросистемы и даже могут их пережить. Валлерстайн признает, что периферийным странам может не хватать такой структурной изоляции от внешней динамики. Справедливо ли это для полупериферийных стран и стали ли центральные страны менее изолированы в XX в. или станут в следующем столетии, остается открытым вопросом, на который не отвечает ни эта книга, ни труд какого-либо из ныне действующих исследователей миросистем.
273
Скопкол (Skopcol, 1979) видит во внешних войнах дестабилизирующий элемент при старом режиме. По Тилли (Tilly, 1978, 1990, 1993), войны имеют долгосрочный эффект усиления государства против гражданского общества, и одновременно они ведут к упадку наций и режимов, неспособных постоянно наращивать людские, финансовые и технологические ресурсы, необходимые для победы в европейских (а позже и всемирных) столкновениях.
274
Капитализм прославляется во псевдоакадемических публикациях и СМИ простодушными объявлениями «конца истории» и утверждениями о том, что все нации, организации и частные лица должны подчиниться диктату мирового рынка, который в конце концов создаст крупнейшее материальное благо для максимального числа людей.
275
Усилия испанцев подчинить себе протестантские Нидерланды, даже хотя бы ценой непредсказуемых материальных затрат, являются наиболее прозрачным примером идеологии, возвещающей рациональный расчет, из всех, рассмотренных в этой книге.
276
Эта истина находит свое отражение в словах Артура Стинчкомба (Arthur Stinchcombe, 1965) о том, что социологи должны ограничиваться объяснениям революционных ситуаций, а не результатов революций, так как слишком многие переменные влияют на то, кто получит власть в конечном итоге. По этой причине результаты слишком случайны, ненадежны и непредсказуемы, в то время как революционные ситуации более просты и проистекают из определяемых причин.

«Пассажиры первого класса на тонущем корабле» — последняя книга безвременно ушедшего из жизни американского социолога Ричарда Лахмана (1956–2021) — подводит итог основных тем его исследований: конфликты между элитами европейских государств, формирование современной глобальной системы политической власти, упадок США как сверхдержавы. В этой работе Лахман, во многом опираясь на свои предыдущие, уже выходившие в России книги «Капиталисты поневоле» и «Государства и власть», анализирует механизмы обретения, удержания и утраты глобальной гегемонии с акцентом на современном американском материале.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.
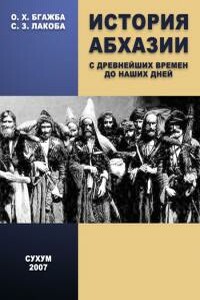
В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.
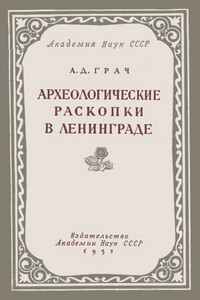
Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.
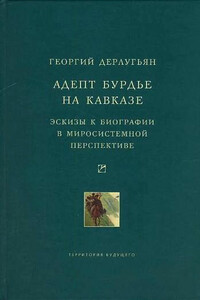
«Тысячелетие спустя после арабского географа X в. Аль-Масуци, обескураженно назвавшего Кавказ "Горой языков" эксперты самого различного профиля все еще пытаются сосчитать и понять экзотическое разнообразие региона. В отличие от них, Дерлугьян – сам уроженец региона, работающий ныне в Америке, – преодолевает экзотизацию и последовательно вписывает Кавказ в мировой контекст. Аналитически точно используя взятые у Бурдье довольно широкие категории социального капитала и субпролетариата, он показывает, как именно взрывался демографический коктейль местной оппозиционной интеллигенции и необразованной активной молодежи, оставшейся вне системы, как рушилась власть советского Левиафана».

Монография посвящена анализу исторического процесса в странах Востока в контексте совокупного действия трех факторов: демографического, технологического и географического.Книга адресована специалистам-историкам, аспирантам и студентам вузов.

ЛИППС (Lipps) Теодор (1851-1914) – немецкий философ, психолог, логик и эстетик. Профессор (1884). Один из создателей современной психологии и базисных представлений о бессознательном психическом и его роли в организации человеческой жизнедеятельности. После получения высшего образования работал приват-доцентом в Боннском университете. С 1884 – профессор Боннского университета, с 1890 профессор университета в Бреслау, с 1894 – профессор Мюнхенского университета. Основал Мюнхенский психологический институт.

В своей работе «Трансформация демократии» выдающийся итальянский политический социолог Вильфредо Парето (1848–1923) показывает, как происходит эрозия власти центрального правительства и почему демократия может превращаться в плутократию, в которой заинтересованные группы используют правительство в качестве инструмента для получения собственной выгоды. В книгу также включен ряд поздних публицистических статей Парето.