Капиталистический реализм. Альтернативы нет? - [2]
На фоне «Дитя человеческого» заметна фигура Т. С. Элиота, ведь фильм, в конечном счете, продолжает тему бесплодия из «Бесплодной земли». Эпиграф, завершающий фильм, — «шанти, шанти, шанти» — имеет отношение скорее к фрагментарной поэзии Элиота, чем к умиротворенности Упанишад. В «Дите человеческом» зашифрованы проблемы и другого Элиота — Элиота «Традиции и индивидуального таланта». Именно в этом эссе Элиот, предвосхищая Гарольда Блума[1], описал взаимоотношение между каноническим и новым. Новое определяет само себя в ответ на то, что уже установлено; в то же время установленное должно перестраивать себя в ответ на новое. Тезис Элиота заключался в том, что истощение будущего не оставит нам даже прошлого. Традиция ничего не значит, когда она больше не оспаривается и не преобразуется. Культура, которая просто сохраняется, не является культурой вовсе. Примером служит изображенная в фильме судьба «Герники» Пикассо, картины, некогда бывшей воплем боли и возмущения перед лицом фашистской жестокости. Как и безразмерная электростанция Баттерси, картина наделяется «иконическим» статусом только тогда, когда она лишается какой бы то ни было функции и контекста. Ни один культурный объект не может сохранить свою силу, когда больше нет новых глаз, способных его увидеть.
Нам необязательно ждать ближайшего будущего, показанного в «Дите человеческом», чтобы увидеть это превращение культуры в музейный экспонат. В какой-то мере сила капиталистического реализма определена тем, как капитализм присваивает и потребляет всю предшествующую историю — таков результат его «системы эквивалентности», которая способна любым культурным объектам, будь они религиозными иконами, порнографией или «Капиталом», приписать определенную финансовую ценность. Пройдитесь по Британскому музею, и вы увидите, что объекты оторваны от своих жизненных миров и собраны словно бы на столе космического корабля Хищника, и тогда вы сможете составить полное представление об уже разворачивающемся процессе. Верования былых культур — при превращении практик и ритуалов в эстетические объекты — подвергаются объективирующей иронии, преобразуются в артефакты. Поэтому капиталистический реализм не просто особый тип реализма. Скорее это реализм как таковой. Это заметили Маркс и Энгельс в своем «Манифесте Коммунистической партии»:
В ледяной воде эгоистического расчета потопила она [буржуазия] священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу — свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой.
Капитализм — то, что осталось, когда верования свелись к ритуалу или символической проработке, остался только зритель-потребитель, пробирающийся через руины и останки.
Однако этот поворот от веры к эстетике, от ангажированности к позиции зрителя считается одним из достоинств капиталистического реализма. По словам Бадью, когда капиталистический реализм заявляет, что он «освободил нас от "вредоносных абстракций", заданных "идеологиями прошлого"», он выдает себя за щит, спасающий нас от опасностей, порождаемых верой как таковой. Предполагается, что позиция иронической дистанции, свойственная постмодернистскому капитализму, должна наделить нас иммунитетом против соблазнов фанатизма. Нам говорят, что занижение наших ожиданий — это та небольшая цена, которую надо заплатить за защиту от террора и тоталитаризма. «Мы живем в противоречии», как заметил Бадью:
<…> отвратительное положение дел, в основе своей поддерживающее неравенство, когда любое существование оценивается в терминах одних лишь денег, предлагается нам в качестве идеала. Сторонники установленного порядка, оправдывая свой консерватизм, не могут назвать его и в самом деле идеальным или чудесным. Вместо этого они решили говорить, что все остальное ужасно. Конечно, говорят они, наверное, мы не живем в условиях совершенного Блага. Однако хорошо уже, что мы не живем в условиях Зла. Наша демократия несовершенна. Но она лучше, чем кровавая диктатура. Капитализм несправедлив. Но он не преступен, в отличие от сталинизма. Мы даем миллионам африканцев умирать от СПИДа, однако мы не делаем расистских и националистических заявлений, как Милошевич. Мы убиваем с наших самолетов иракцев, однако не перерезаем им горло мачете, как в Руанде, и т. д.
Такой «реализм» аналогичен дефляционной позиции депрессивного больного, который считает, что любое позитивное состояние, любая надежда — это опасная иллюзия.
В своей теории капитализма, со времен Маркса определенно самой впечатляющей, Делёз и Гваттари описывают его как некую темную потенциальность, которая преследует все прошлые социальные системы. Капитал, утверждают они, это «неименуемая Вещь», та мерзость, которую первобытные и феодальные общества стремились заблаговременно «отпугнуть». Когда капитализм на самом деле наступает, он приносит с собой массированную десакрализацию культуры. Это система, которая более не управляется никаким трансцендентным законом. Напротив, она разрушает все подобные коды, дабы перестроить и заново установить их в режиме
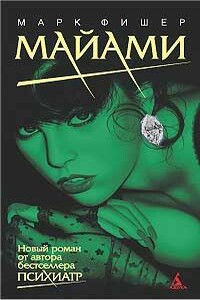
Новый роман от автора знаменитого бестселлера «Психиатр».Николь, молодая журналистка из города Майами, проанализировав несколько скандальных дел, о которых шумят газеты, приходит к выводу, что богатство сопряжено с немалым риском. Странная закономерность: пожилые миллионеры скоропостижно умирают, завещав немалую сумму некой сексапильной официантке или загадочному Сенон-фонду. Молодая женщина решает разобраться, в чем тут дело. Однако вокруг самой Николь возникает опасная круговерть: пропадают улики, в ее квартиру забираются странные воры, погибает ее друг.
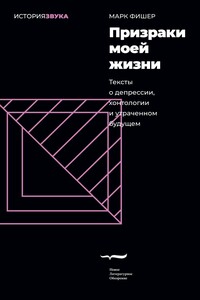
Марк Фишер (1968–2017) – известный британский культурный теоретик, эссеист, блогер, музыкальный критик. Известность пришла к нему благодаря работе «Капиталистический реализм», изданной в 2009 году в разгар всемирного финансового кризиса, а также блогу «k-Punk», где он подвергал беспощадной критической рефлексии события культурной, политической и социальной жизни. Помимо политической и культурной публицистики, Фишер сильно повлиял на музыкальную критику 2000‐х, будучи постоянным автором главного интеллектуального музыкального журнала Британии «The Wire».
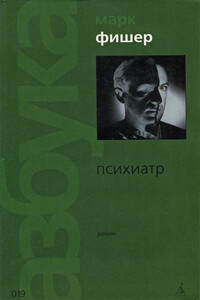
Роман «Психиатр» принадлежит перу одного из наиболее успешных североамериканских романистов Марку-Андре Пуассону, публикующему свои произведения под псевдонимом Марк Фишер. Динамичное повествование балансирует между криминальным и психологическим романом. Жизнь преуспевающего психиатра в одно прекрасное утро оказывается перевернутой: его арестовывают по обвинению в зверском изнасиловании собственной пациентки. Беда в том, что сам врач не имеет ни малейшего понятия о том, как он провел последние 24 часа.
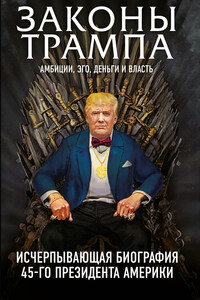
Кто такой Дональд Дж. Трамп? Несмотря на десятилетия пристального внимания, многие аспекты его жизни не очень хорошо известны. Чтобы понять Трампа, The Washington Post собрала команду репортеров и исследователей. Политический репортер Майкл Краниш и старший редактор Марк Фишер анализируют семейные архивы, открытые документы и агрессивные действия Трампа на пути к славе и власти.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.

В книге трактуются вопросы метафизического мировоззрения Достоевского и его героев. На языке почвеннической концепции «непосредственного познания» автор книги идет по всем ярусам художественно-эстетических и созерцательно-умозрительных конструкций Достоевского: онтология и гносеология; теология, этика и философия человека; диалогическое общение и метафизика Другого; философия истории и литературная урбанистика; эстетика творчества и философия поступка. Особое место в книге занимает развертывание проблем: «воспитание Достоевским нового читателя»; «диалог столиц Отечества»; «жертвенная этика, оправдание, искупление и спасение человеков», «христология и эсхатология последнего исторического дня».

Книга посвящена философским проблемам, содержанию и эффекту современной неклассической науки и ее значению для оптимистического взгляда в будущее, для научных, научно-технических и технико-экономических прогнозов.

Основную часть тома составляют «Проблемы социологии знания» (1924–1926) – главная философско-социологическая работа «позднего» Макса Шелера, признанного основателя и классика немецкой «социологии знания». Отвергая проект социологии О. Конта, Шелер предпринимает героическую попытку начать социологию «с начала» – в противовес позитивизму как «специфической для Западной Европы идеологии позднего индустриализма». Основу учения Шелера образует его социально-философская доктрина о трех родах человеческого знания, ядром которой является философско-антропологическая концепция научного (позитивного) знания, определяющая особый статус и значимость его среди других видов знания, а также место и роль науки в культуре и современном обществе.Философско-историческое измерение «социологии знания» М.

«История западной философии» – самый известный, фундаментальный труд Б. Рассела.Впервые опубликованная в 1945 году, эта книга представляет собой всеобъемлющее исследование развития западноевропейской философской мысли – от возникновения греческой цивилизации до 20-х годов двадцатого столетия. Альберт Эйнштейн назвал ее «работой высшей педагогической ценности, стоящей над конфликтами групп и мнений».Классическая Эллада и Рим, католические «отцы церкви», великие схоласты, гуманисты Возрождения и гениальные философы Нового Времени – в монументальном труде Рассела находится место им всем, а последняя глава книги посвящена его собственной теории поэтического анализа.