Канареечное счастье - [15]
Действительно, вижу, держит он под мышкой целую кипу печатной бумаги.
— Я б, — говорит, и сам их раздал, да нет у меня свободной минуты — тороплюсь на урок. А вы человек аккуратный, на вас можно положиться с совершенным уважением.
— Что ж, — говорю. — Давайте. Для меня это на самом деле сущий пустяк.
Передал он мне все свои бумаги и напоследок еще попросил:
— Уж вы раздайте, Елпидифор Семеныч, незамедлительно. Потому это насчет хозяйственных дел. Касательно крестьян и рабочих.
— Если так, — говорю, — будьте покойны. Мигом слетаю и удовлетворю общественные нужды.
Пошел я, значит, по ярмарке, промеж торговых рядов. Одному дашь, другому… Вижу, читает публика с интересом. И как увидал я, конечно, городового, и ему дал бумажку. «Все-таки, — думаю, — должностное лицо. Уж ему-то, — думаю, — главным образом надлежит ознакомиться». Только как всполошится вдруг господин городовой.
— Стой! — кричит. — Ни с места!
И сейчас же, замечаю, обнажает горячее оружие.
— Ты это, — кричит, — почто народ мутишь? Откудова, — спрашивает, — эта литература?
Обмер я, понятно, со страху. И язык во рту, как осиновый кол — ни вправо, ни влево. А городовой меня, понятно, за шиворот и рукой по физиономии хлещет. Даже публика стала вступаться:
— За что бьешь человека? Ишь, — говорят, — физиономист какой нашелся!
Ну да что уж распространяться! Арестовали меня, конечно, по всем правилам судебных законов. Вышло, стало быть, что я оказался главным политическим арештантом и специалистом по каторжным делам. И ах как убивалась маменька! И посейчас, как вспомню, орошаюсь слезами.
Пришла она вскорости проведать меня в арестное отделение. И как увидала, что я за решеткой, — горько-прегорько заплакала. А поплакав, спрашивает:
— Пидя, — говорит, — скажи правду, тебя на цепь не посадят?
— Бог с вами, маменька. Здесь и цепей нет приблизительно подходящих.
Вздохнула маменька тяжко. И вдруг пугливо так по сторонам огляделась.
— А что, — шепчет, — ты зарезал кого или так только из ливорверта стрельнул?
Закричал уж тут я на маменьку не своим, можно сказать, криком. Прямо-таки сердце у меня захолонуло от этаких ее слов.
— Маменька! — кричу я. И плачу. — Маменька!
А маменька уже сама перепугалась от собственных своих выражений.
— Полно, — говорит, — голубчик. Вижу, что спутала, старая дура. Уж и сама теперь понимаю, что есть ты так себе безобидный вор, а то и просто фальшивый монетчик.
— Да нет же! — кричу. — Поверьте, маменька! Я и клопа не убью без крестного знамения.
И так мне горько в ту минуту сделалось вследствие и по причине ее слов… А уж как стали прощаться — развернула маменька узелок, вынула священную просфорку.
— Возьми, — говорит, — сынок. Скушай на здоровье. Еще папаша, покойник, сию просфорку откусил собственными зубами.
Потом простерла ко мне свои материнские руки и говорит:
— Благословляю тебя на долгое тюремное сидение и арештантскую жизнь.
С тем мы, конечно, и распрощались. И уж не видел я больше маменьки на этом вещественном свете… Позже писала она мне еще о своем положении и обстоятельствах жизненных условий. Но опять-таки — что скажешь в письме? Какой-нибудь сущий пустяк, без всякой психики и ясности душевных струн. Оно, конечно, и письмо является результатом. Но все-таки, главным образом, ряды безжизненных строк. А ведь рассудишь с умом: что такое письмо? Бумага — сплошная бумага, и больше ничего… Ну да писала мне маменька уже значительно позже.
Вскорости, помню, вызвали меня на допрос к господину судебному следователю. Очень мне, помню, понравился этот господин. Усадил он меня перед собой на стуле. Как отец родной обласкал и успокоил.
— Вы, — говорит, — Кукуреков, не бойтесь. Видали мы и пострашнее преступников. А что вы анархист, так это же совсем ничего. Главное, признайтесь нам во всей откровенности и по чистоте вашей души.
И так это он ласкательно говорил — прямо-таки привел меня в умиление.
— Ваше превосходительство! — говорю. — Только, — говорю, — вам за вашу ласку и внимательное обхождение… Потому, — говорю, — как есть не пойму, за что пострадал, сохраняя свою невинность.
— Так, так, — говорит. — А признаете себя анархистом?
Задумался я в ту минуту, что бы значило это слово. Но как взглянул на господина следователя, мигом успокоился. Ведь вот, думаю, с какою ласковостью во взоре. И сказать бы знакомый — а то как есть чужой человек.
— Признаю, — говорю, — ваше превосходительство. Раньше, — говорю, — сомневался, но уж как вы объяснили — вижу и сам, что так оно есть действительно.
Усмехнулся тут господин судебный следователь, потрепал меня по плечу:
— Ну вот и хорошо. Спасибо за признание.
— Нет, — говорю. — Вам спасибо, ваше превосходительство. За ласку вашу и культурный разговор. А уж я вас никогда не забуду.
— Да, — говорит, — меня забыть трудновато.
И ведь правду сказал — не забыл я его. Потому умилительный человек был и обхождения европейского. Виделся я с ним еще раз после суда в жандармском управлении. Узнал он меня, сам подошел, поздоровался.
— Здравствуйте, — говорит, — политический деятель! Теперь, — говорит, — назначьте нам город, куда бы вы хотели поехать. А уж мы вам и на дорогу дадим, и стражника для вашей охраны предоставим.
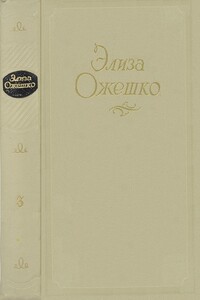
Роман «Над Неманом» выдающейся польской писательницы Элизы Ожешко (1841–1910) — великолепный гимн труду. Он весь пронизан глубокой мыслью, что самые лучшие человеческие качества — любовь, дружба, умение понимать и беречь природу, любить родину — даны только людям труда. Глубокая вера писательницы в благотворное влияние человеческого труда подчеркивается и судьбами героев романа. Выросшая в помещичьем доме Юстына Ожельская отказывается от брака по расчету и уходит к любимому — в мужицкую хату. Ее тетка Марта, которая много лет назад не нашла в себе подобной решимости, горько сожалеет в старости о своей ошибке…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.

Настоящий том «Библиотеки литературы США» посвящен творчеству Стивена Крейна (1871–1900) и Фрэнка Норриса (1871–1902), писавших на рубеже XIX и XX веков. Проложив в американской прозе путь натурализму, они остались в истории литературы США крупнейшими представителями этого направления. Стивен Крейн представлен романом «Алый знак доблести» (1895), Фрэнк Норрис — романом «Спрут» (1901).

В настоящем сборнике прозы Михая Бабича (1883—1941), классика венгерской литературы, поэта и прозаика, представлены повести и рассказы — увлекательное чтение для любителей сложной психологической прозы, поклонников фантастики и забавного юмора.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.