Калиф-аист. Розовый сад. Рассказы - [42]
И когда вечером, отупевший от скуки и механической работы, я, голодный, топтался перед витринами бакалейных лавок, взгляд мой иногда притягивали к себе витрины соседних книжных магазинчиков или букинистических лавок, где красовались жирные синие цифры, обозначавшие умопомрачительно низкие цены на скверные книжонки, и старые, тоже скверные книжки, пыльные и выцветшие, с белесой поперечной полоской — как полоска от шляпы на загорелом лбу — следом бумажной опояски, на которой указывалась цена; дешевые пикантные серии, популярные переложения философских трудов, дурные, сокращенные переводы нашумевших романов — все это взывало ко мне своими кричащими титулами:
— Купи нас, купи! Мы же книги и мы так дешевы! Мы раскроем перед тобою тайны, которые ведомы всем, кроме тебя! Мы просветим, мы просветим тебя! Мы развеем окутавший тебя туман, избавим от скуки!
Скука, голодная скука, безденежная скука терзала меня по вечерам, когда еще рано было идти на ночлег и я часами торчал на углу, за спинами дувшихся в карты извозчиков, которые метали свои грязные карты на крышку мусорного ящика. Под конец у меня уже ноги подгибались от усталости. И хотя денег едва хватало на жалкий ужин (а ведь и в полдень, на обед, приходилось довольствоваться двумя маленькими булочками, нарезая их купленным у лоточника перочинным ножичком на крохотные геометрические фигурки, чтобы растянуть трапезу), я все же довольно часто покупал за несколько филлеров самую дешевую книжку или бульварную газетенку и, сев на уличную скамейку под яркими фонарями, тупо вбирал в себя ядовитые, пошлые, убийственные буквы.
Или в полдень, во время перерыва, я выходил на сквер и садился на скамейку; возле меня, уткнувшись лицом в спинку скамьи, дремал какой-нибудь рабочий, и весь сквер вокруг, словно поле сражения — трупами, был усеян распростертыми, застывшими в неподвижности телами: на фабрике, что располагалась неподалеку, в это время тоже был обеденный перерыв, и рабочие, толпы рабочих, выходили сюда, чтобы, слегка перекусив, рухнуть пластом на траву и, прикрыв лица засаленными шляпами, спать, спать… Я же читал, читал и все искал за буквами какое-то другое, драгоценное, истинное мое «я».
(А иной раз и я задремывал на скамье под перебранку этих хриплых громкогласных, дурашливых букв и тотчас просыпался в моей мягкой милой постели, постели Элемера Табори, и растерянно размышлял о том, что может означать этот ужас, который опять мне приснился…)
Эти книги лишь увеличивали хаос в моей голове, порождали мучительные догадки, болезненную, путаную философию, неутолимые желания, гонор. Мои мысли были сумбурны, незрелы, мои речи — пугающе кичливы, несусветно фантастичны. И вот, проснувшись опять Элемером Табори, в полном сознании своего второго грустного «я», я сурово осудил себя-писца. Да, я был полуграмотным в самом дурном смысле слова. Таким видели меня мои коллеги и потешались над путаным моим всезнайством, дикими, несуразными идеями. Я был анархистом, ощущал себя прозябающим в безвестности непонятым гением, мне хотелось убивать, поджигать, и вовсе не доброта и не сила воли останавливали меня, а лишь безмерная трусость.
Между тем — и это-то было ужасней всего — во мне, глубоко спрятанная, шевелилась некая приглушенная беспомощная доброта, внушавшая мне безмерное к себе отвращение, — доброта и вкус, которые лишь страдали, но не в силах были хоть как-то влиять на мои поступки. Надо мною властвовали страсти, ненасытные и трусливые, ненависть, спесь и грубая чувственность, порождение скуки и глупых мечтаний, которую усердно пестовали дешевые низменные романы ужасов, обрывки кинофильмов и порнографические открытки. Эти страсти руководили лишь моими мыслями, но, если бы я смел и мог их удовлетворять, несомненно, руководили бы и поступками. Я был некрасив (действительно в этой моей жизни я был некрасив), женщин не знал, и у меня не было денег: таким образом моя чувственность обратилась в темную, одинокую, голодную похоть, которая терзала меня постоянно, как если бы привязанное животное непрерывно кололи стрекалом.
И, боже мой, они подспудно жили также в сновидениях чистого и благородного Элемера Табори, эти самые грубые, самые отвратительные желания, самые извращенные мысли!
Все, все сходилось с ужасающей точностью. Мельчайшие детали обеих моих жизней налагались друг на друга фантастически, кошмарно непогрешимо. Ни одна минута, ни один час не выпадали, — так совпадают линии одного чертежа, повторенного на двух листах бумаги.
И эта механическая совмещенность деталей представилась мне чем-то абсолютно, до отчаяния объективным. В то утро, пробужденный гудками пароходов и звуками духового оркестра в номере венецианского отеля, лежа на кровати, защищенной сеткой от комаров, я тотчас понял, что больше не смогу воспринимать это как сон — никогда больше не смогу.
Точно с тем же правом — еще с большим правом — я мог бы счесть сновидением самого Элемера Табори, Венецию, Этелку… Нет, ни то, ни другое не сон: это две разные жизни. Две памяти. Как если бы самое чистое, самое благородное вино влили в стакан с отвратительной бурдой.
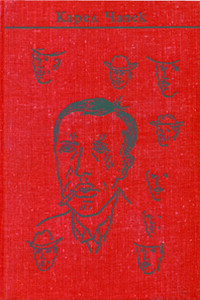
Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.

Цикл «Маленькие рассказы» был опубликован в 1946 г. в книге «Басни и маленькие рассказы», подготовленной к изданию Мирославом Галиком (издательство Франтишека Борового). В основу книги легла папка под приведенным выше названием, в которой находились газетные вырезки и рукописи. Папка эта была найдена в личном архиве писателя. Нетрудно заметить, что в этих рассказах-миниатюрах Чапек поднимает многие серьезные, злободневные вопросы, волновавшие чешскую общественность во второй половине 30-х годов, накануне фашистской оккупации Чехословакии.
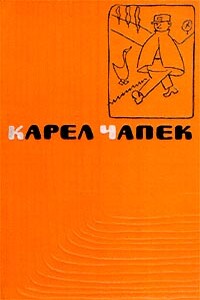
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
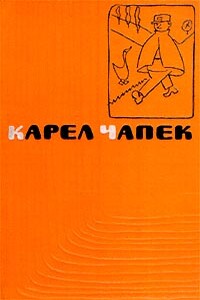
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Стариною отзывается, любезный и благосклонный читатель, начинать рассказ замечаниями о погоде; но что ж делать? трудно без этого обойтись. Сами скажите, хороша ли будет картина, если обстановка фигур, ее составляющих, не указывает, к какому времени она относится? Вам бывает чрезвычайно-удобно продолжать чтение, когда вы с первых же строк узнаете, сияло ли солнце полным блеском, или завывал ветер, или тяжелыми каплями стучал в окна дождь. Впрочем, ни одно из этих трех обстоятельств не прилагается к настоящему случаю.