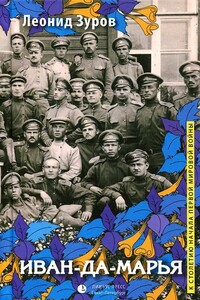Мальчики, замирая от надтреснутого голоса
Юнкера, взволнованно следили за жуткими взлетами его белых тонких рук.
Когда Вилинов кончил, Митя вполголоса спросил юнкера артиллериста Агафьева, который все время сидел молча:
- А вы как?
Агафьев вернулся из Петропавловской крепости. Тик часто дергал его лицо и резко сводил черные, сросшиеся над переносицей брови. Он явился в корпус в обтрепанной солдатской шинели, обросший клочковатой бородой.
- Я, - ответил, посмотрев на Митю пустыми глазами, Агафьев, - я у стенки стоял, а матрос наганом перед глазами водил… Я ему крикнул: «Расстреливай! Я вас терпеть не могу! Вы сволочь!» А он наган опустил и сказал: «Я тебя отпущу. Ты, молокосос, не выказал страха…»
Когда манифестация рабочих проходила мимо корпуса, в ясный, сверкавший снегами солнечный день кадеты открыли окна настежь, и духовой оркестр грянул и понес отважно и вольно русский гимн, и в медные торжественные звуки труб вплелись сотни молодых голосов.
- Боо-о-оже, Царя храни…
Митя, стоя у окна, обняв Лагина за пояс, пел до хрипоты. В их глазах были видны слезы, и соприкасавшиеся руки дрожали.
- Царствуй на славу, на славу нам…
- Там-там, там-там, - пели, звеня, трубы…
Толпа текла мимо, словно затканная черным туманом. Ее многоликая вражда была обращена на корпус.
***
В начале ноября знакомый офицер из автомобильной роты позвонил по телефону в корпус. Его голос был тих и часто рвался.
- На Корзинкинской фабрике… Вы меня слушаете?… да-да. Собирается карательный отряд… на корпус… Весь гарнизон против вас… Дело серьезное…
Перепуганные офицеры быстро выдали кадетам отпускные билеты.
Вечером Митя и Лагин добрались до знакомого деревянного дома. Снег, мягкий и пушистый, ложился на их фуражки и плечи. Аня вышла, кутаясь в платок.
- Здравствуйте, раздевайтесь, - сказала Она. - Только, ради Бога, тише, отец спит.
- Анечка, из Ярославля мы уже… - сказал ей Митя. - Пришли проститься.
Снег таял на ковре. Они стояли, держа в руках фуражки. Ее лицо, такое детское и милое, стало серьезным.
Уходя, Митя чуть не зацепился за поло-кик и, оглянувшись, увил ее напряженную улыбку.
- Ничего, я писать буду, Аня, - сказал Митя.
Она посмотрела им вслед, накинула цепочку, села на край ступенек и, прижав к глазам платок, склонив голову на колени, заплакала. А потом, тряхнув головой, по-детски начала подниматься наверх через две ступеньки.
В Вологде Митя расстался с друзьями и залез спать на верхнюю полку. За окном шумел ветер, снежная крупа, дребезжа, била стекла. Слипались глаза. Покачивало.
Во сне он увидел солнечный Ярославль, зеленеющую набережную, странные пароходы с громадными трубами, что весело гудели, выплескивая белый пар, и гонялись по Волге взапуски. А он с Аней рука об руку. Стоят и хохочут. Как посмотрят друг другу в глаза, так сразу и смешно. На нем белая короткая гимнастерка и фуражка драгунского образца, тульей вверх. А по набережной идет хор, и все в нем кадеты и гимназистки. А голоса мужские - что колокол с медью, а женские - медь с серебром. Окружили, поют и смеются. А Мите стыдно, и чего стыдно - сам не знает. Видит, показывают все на его фуражку. Он на нее - нельзя снять. Высохла на голове и обручем села. И стыдно перед Аней, и нехорошо, и голову давит.
Митя проснулся. Фуражка налезла на лоб. Он ее сдвинул на затылок и улыбнулся глупому сну.
Было тепло. Из соседнего отделения несся женский визг, хохот и звуки гармони. Митя, зевнув, приподнялся на локте, подумал - хорошо бы воды попить, и посмотрел вниз. При свете огарка он увидел, как толстошеий матрос в расстегнутой черной куртке крутил цигарку и рассказывал что-то солдатам. Те слушали его, навалившись друг на друга. На краю скамейки сидел мужик и резал ножом хлеб.
- …А ты думал что, - сказал матрос, - шутить будем?
Мужик отломил хлеб и перекрестился.
- Эй, ты… святой! - крикнул ему матрос с усмешкой. - Святые теперь в вагонах не ездят, святые в поле за кустом сидят. Против такой штуки, - он приподнял рукой кобуру револьвера, - никакой святой, никакая трава не поможет.
Солдаты засмеялись.
Мужик не донес хлеба до рта, испуганно на них поглядел и что-то зашептал.
Жажда пропала. «Увидят - убьют», - подумал Митя, и холодные, противные мурашки поползли по его спине. «А как же мать и Аня?» - подумал он, и ему стало тяжело, как от страшного сна, во время которого нельзя проснуться. Он придвинулся ближе к стене и, подтянув ноги, вспоминал рассказ юнкера. Тоже будет наганом водить, а то вытащит на станции и пристрелит… Бежать надо, бежать… Сердце учащенно билось.
Вагон постепенно стихал. Четко перестукивали колеса. Напротив на полке уже храпел один, подложив под перекладину порыжевшие сапоги. Догорала свеча. Из-за подернутого веткой мороза окна лился холодный и тусклый свет. Было жутко и тяжело.
Митя знал этот путь. Один перегон остался до станции Шеломово.
Он осторожно приподнялся и посмотрел вниз. Флотский уже храпел, открыв рот. Его ноги были раскинуты, лицо замаслилось. Солдаты спали друг у друга на плече. Только один из них что-то бессвязно бормотал во сне.
Митя снял фуражку, втиснул ее в карман и поднял воротник, чтобы скрыть петлицы. Оставались вшитые в сукно погоны. Ножа не было, казенные нитки были крепки. Митя два ногтя обломал до крови, но погон не выдрал.