К игровому театру. Лирический трактат - [45]
А Попов и сам к этому времени утратил интерес ко всяческим карьерным притязаниям. Как любой стареющий человек, он все больше и чаще стал думать о смысле земного бытия: о жизни вообще и о своей жизни — особенно. А такие раздумья, как известно, ни к чему хорошему не приводят. Мастер затосковал. Бывало теперь часто: то задумается на несколько минут прямо посреди лекции; то, собравшись что-то важное сказать нам, откроет рот, но помолчав, махнет вдруг рукою и отпустит всех на перерыв; то совсем, совсем было собравшись уходить, в профессорской уже раздевалке, когда придет твоя очередь подать ему пальто, посмотрит на тебя внимательно и произнесет ни с того, ни с сего в пространство: "Да, наворочали мы дел... а расхлебывать вам придется". Как я любил его в такие минуты. Я готов был расхлебывать все, что придется, и сколько понадобится, лишь бы хоть ненадолго прервать его тоскливые раздумья, лишь бы посмотрел он на меня и улыбнулся. Но с улыбками тогда было у него не густо.
Раздумья его были, наверное, мучительными, может быть, невыносимыми, потому что строг он был не только к другим, но и к себе. Судил себя, вероятно, молчаливым, но беспощадным судом, хотя, насколько мне известно, особой вины у него и не было. Он не писал тайных доносов, не клеймил никого и явно в громогласных газетных филиппиках; смешно сказать, но он в те страшные 30-е и 40-е годы не вступал даже "в ряды", хотя при его-то постах это было, можно предположить, весьма и весьма непросто (Алексей Дмитриевич Попов вступил в партию в 1954 году).
Потом, после XX съезда, его прорвало; всплыли наверх, выскочили, вырвались из глубины главные качества: бескомпромиссная цельность, откровенная прямота и знаменитое русское желание дойти до последней черты. Общий грех советского искусства перед народом, общую вину театра он бесстрашно воспринял как свой, личный грех, как свою личную виновность. И начал каяться.
Я никогда не забуду одно из таких покаяний. Это была его встреча с гитисовскими национальными студентами. Устремленный к аудитории, он почти что лежал на трибуне, грозно и беззащитно нависая над юными таджиками и башкирами. Срывающимся от волнения и боли голосом он стенал перед ними о потере театром народного доверия, об утраченном зрителе, о разучившихся думать драматургах и о режиссуре, легко продавшей свое первородство за чечевичную похлебку, а согнанные в этот зальчик на формальное мероприятие аульские ребята и девушки плохо улавливали то, что так волнует этого неизвестного им Попова. Они пока еще не знали многих тонкостей русского языка, не говоря уже обо всей сложности театральных проблем, поднимаемых долговязым профессором. Тут была знакомая нам ситуация: нам бы ваши заботы, господин учитель. Но для Попова это было неважно, ему нужно было говорить. "Мы дошли до ручки. Мы запустили свое хозяйство. Высохшая, как у Каренина, душа — бесплодна. Нас ничто не трогает: ни горе, ни красота. Мы изолгались. В нас высохли родники". Меня колотила дрожь, мне было его безумно жаль, потому что девочки в заднем ряду, где я сидел, тихо и мирно шептались. Я отвлекся на них и пропустил часть его откровений. Но вот он выпрямился, оглядел зал и сказал веско и горько: "Расцвет театра и драматургии всегда сопутствовал подъему общественной жизни и отличался в это время подъема человечностью, ведением души, а нам говорили: не читайте в душах!" Он закашлялся, вытащил платок, вытер мокрый лоб и добавил тихо: "И мы не читали".
У меня тогда мелькнула жутковатая догадка: оказывается, жил он все последние годы на преодолении своей органики, через силу, и теперь страшно устал. Его можно было понять: он слишком долго наступал на горло собственной песне.
Бывают катастрофы природные — землетрясения, эпидемии, засухи; рушатся горы, поднимаются и затопляют сушу моря, высыхают леса и вымирают целые виды животных. Бывают катастрофы социальные — падения империй, революции, гражданские и мировые войны: разрушаются царства, распадаются племена, гибнут миллионы людей. Бывают катастрофы духовные — крушения идеалов, падения нравов, разрушения привычных мировоззрений. Что-то подобное катастрофе третьего рода происходило с Поповым. Наступило и для него время мировоззренческих перемен: старый взгляд на окружающий мир уже не годился, нового еще не было. Точнее, было какое-то неясное до конца предчувствие новых подходов к жизни, к творчеству, к человеческим отношениям, но оно рождалось в нем с такими мучениями, с таким напряжением, что вынести все это не хватало никаких сил. А если вспомнить, что он принимал все всерьез, только взаправду, только в максималистском варианте, то станет понятно в полном объеме его душевное смятение: отход от творчества в театре (он сам не поставил больше ни одного спектакля), интенсивность поисков завещания миру (за короткое время он написал три объемистых книги), целая серия реанимаций и сравнительно преждевременная смерть...
На самом рубеже 50-х и 60-х годов было созвано всесоюзное совещание молодых режиссеров. А. Д. пригласили в качестве свадебного генерала. Ему было поручено почетное дело — открыть конференцию в качестве патриарха режиссуры. Ни разу в жизни я не слышал более короткой речи. В его обращении к молодым режиссерам было всего три мысли: советский театр гибнет; мы его спасти не можем; надежда только на вас. Сказав это, он неловко сошел с трибуны и, сгорбившись, ни на кого не глядя, ушел из президиума. Бетховен? Микеланджело? Нет — может быть, Феофан Грек?
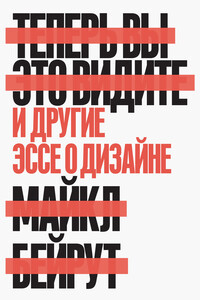
На страницах книги Майкл Бейрут размышляет об истории и направлениях дизайна, о собственном пути в профессии, о шрифтах и цвете, архитектуре, имитациях и поп-культуре, отношениях с клиентами, о доме своего детства, «Клане Сопрано» и логотипе президентской кампании Хиллари Клинтон. Многолетний опыт работы помогает Бейруту глубоко анализировать предмет и при этом писать просто, понятно и с юмором. Это книга для графических дизайнеров, арт-директоров, студентов профильных вузов, а также для тех, кому интересен мир графического дизайна и опыт одного из лучших дизайнеров мира. На русском языке публикуется впервые.

В книге рассказывается о творчестве холмогорских, якутских, нижегородских и петербургских резчиков, о художественно-технологических приемах резьбы по кости. Воспроизведены наиболее интересные образцы изделий.

Автор книги — художник-миниатюрист, много лет проработавший в мстерском художественном промысле. С подлинной заинтересованностью он рассказывает о процессе становления мстерской лаковой живописи на папье-маше, об источниках и сегодняшнем дне этого искусства. В книге содержатся описания характерных приемов местного письма, раскрываются последовательно все этапы работы над миниатюрой, характеризуется учебный процесс подготовки будущего мастера. Близко знающий многих живописцев, автор создает их убедительные, написанные взволнованной рукой портреты и показывает основные особенности их творчества.
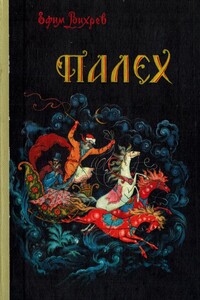
Книга «Палех» включает в себя цикл очерков Е. Ф. Вихрева, посвященных народному искусству вообще и палехскому в особенности.

Эта книга знаменует собой бегство из плоского мира бумаги и экрана, демонстрируя читателю несколько сотен великолепных примеров подачи сложной и многомерной информации. Будучи одной из самых дизайн-ориентированных книг Эдварда Тафти, «Представление информации» содержит в себе карты и схемы, научные презентации и диаграммы, компьютерные интерфейсы, статистические графики и таблицы, стереофотографии, улики из зала суда, расписания, а также множество других прекрасных примеров, включая даже раскладывающиеся картинки из книжек-раскладушек.

Монография о творчестве выдающегося русского живописца, художественного критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа. Художник поразительно широкого диапазона, Бенуа был крупнейшим театральным живописцем, выдающимся рисовальщиком и пейзажистом. Анализу его работ, а также его деятельности критика и историка посвящена эта книга.