Избранные труды - [5]
Сходно обстоит дело и в другой области интересов В. Э. Он знал, что делал, вынося на обложку монографии об элегической школе слова «Лирика пушкинской поры». Книга эта, с исключительной точностью рисующая движение «центрального» лирического жанра начала XIX века, высвечивающая его трудный генезис, расширение семантических и стилистических горизонтов, способность служить полем столкновения различных духовных, идеологических и эмоциональных комплексов (страницы, посвященные «диалогам» Андрея Тургенева и Карамзина, Тургенева и Жуковского, Жуковского и Батюшкова, относятся, безусловно, к высшим достижениям русской филологии), книга эта мыслилась (и писалась, на что есть прямые указания в тексте) как преамбула, введение в главный — пушкинский и пушкиноцентричный — сюжет. Здесь та же история, что с «готикой». Читая предисловия к томам Дельвига и Дениса Давыдова (чья эволюция не остановилась на элегическом цикле, рассмотренном в «Лирике пушкинской поры»), главы о поэзии пушкинского круга, Баратынском, поэзии 1830-х годов во втором томе «пушкинодомской» «Истории русской литературы» (1981), очерки истории отдельных поэтических жанров (элегии, идиллии, стиховой драмы), словарные и не словарные статьи о конкретных поэтах, мы в какой-то мере угадываем единую большую концепцию (ее то ли проект, то ли дайджест был написан В. Э. по просьбе американских коллег на рубеже 1997–98 гг. и недавно опубликован в № 59 «Нового литературного обозрения»), — но тоже только угадываем. Очень плотное, «контекстное» письмо Вацуро, постоянно устанавливающего «странные сближения» меж, казалось бы, весьма друг от друга отдаленными культурными и литературными феноменами, парадоксальным образом то и дело обнаруживает смысловые пробелы. То, что нам кажется лакунами, возможно, представлялось исследователю само собой разумеющимся, не требующим разжевывания. А возможно, напротив, оставалось для него неразрешимой проблемой. Простоты, что хуже воровства, Вацуро не любил. И об ограниченности исследовательских возможностей, о неизбежности в иных случаях временно руководствоваться недоказуемой строго гипотезой, он напоминал не раз. Как бы то ни было (а было, думается, по-разному), сегодняшний читатель Вацуро (в первую очередь это относится к его коллегам) в какой-то мере обречен заниматься реконструкцией общего замысла ученого. Конечно, эта проблема встает и при обращении к наследию других крупных гуманитариев, но в случае Вацуро приобретает особенную остроту, неотделимую от вполне отчетливой печали: увидеть то, что видел В. Э., нам не удастся никогда.
И здесь естественно возникает третий — наиболее наглядный и наиболее горький — сюжет. Это, разумеется, Лермонтов, которым Вацуро занимался всю жизнь, которого он знал и понимал, как никто другой. Здесь могут возразить, указав на то, что из-под пера Вацуро вышли не только работы, трактующие «частные» и «специальные» сюжеты (от «Лермонтова и Марлинского», 1964, до «Литературной школы Лермонтова», 1986), но и безусловно интегрирующий все наработки очерк о поэте в седьмом томе «Истории всемирной литературы» (1989), что он буквально «выдышал» «Лермонтовскую энциклопедию» (на официальном языке это называлось «заместитель главного редактора»), что Лермонтов — вообще писатель «простой» (творчество компактно, а биография, по слову Блока, «нищенская»), и уж о нем-то Вацуро суммой своих публикаций сказал все, что не успели открыть прежде. Частично принимая эти резонные соображения, приходится констатировать: мозаика сама собой не складывается, втиснуть в раздел коллективного труда монографию было не под силу даже такому изощренному литератору, как В. Э., очень многие статьи «Лермонтовской энциклопедии» (при непреходящем значении этого замечательного издания) писаны совсем не в духе Вацуро (некоторые же из них сущностно противостоят его научным, эстетическим и человеческим идеалам), а наследие Лермонтова и после работ Вацуро (точнее — вследствие существования этих работ) требует обобщающего концептуального труда. Такую книгу мог написать только Вацуро. (Понятно, что это не принижение авторов классических исследований, от П. А. Висковатова до Д. Е. Максимова. И тем более не шлагбаум на пути будущих лермонтоведов.) Не написал. Некоторых собеседников добродушно дразнил, рассказывая о якобы имеющемся сочинении под условным названием «Почему я никогда не напишу книгу о Лермонтове».
Так почему же? Почему ни «готика» (ныне собранная из фрагментов), ни «лирика пушкинской поры» (не завершена), ни лермонтовиана (сведение всех лермонтоведческих штудий В. Э. под одной обложкой и с надлежащей рефлексий представляется серьезной и насущной задачей), ни статья о Пушкине, которую В. Э. обещал редакции словаря «Русские писатели», не стали «осязаемыми» фактами? Ответов, как водится, много, и ни один из них невозможно счесть окончательным.
Первый ясен: Вацуро работал в советской системе, что ставила идеологические препоны на пути любого гуманитария (так, в крепком подозрении для официальных инстанций долгое время находился любимый В. Э. готический роман), рассматривала ученого (коли числится он в академической структуре и получает жалованье) как чиновника, обязанного выполнять поставленные перед ним задачи и не слишком выделяться из коллектива иных чиновников. Прибавим сюда высокое чувство долга («плановость» работы не могла сказываться на ее качестве), необходимость заработка (не столь завидны были оклады сотрудников Пушкинского Дома, а за предисловия и журнальные статьи платили прилично), человеческую отзывчивость (если просит хороший знакомый и о вообще-то полезном деле, то отказывать неудобно; даже если знакомый не так уж хорош, а работа, сданная в срок, не устроит какую-нибудь инстанцию: так легло в стол предисловие к «Трем повестям» В. А. Соллогуба — в 1978 году в «Советской России» решили, что лучше издать книгу вовсе без вступительной статьи, чем с «сомнительным» текстом В. Э.). Не забудем и об уже упоминавшемся желании использовать любой случай (любую площадку) для обнародования своих наблюдений и счастливую (или несчастную?) способность живо интересоваться буквально каждым сюжетом, находить в нем «свое», встраивать его в грандиозный общий чертеж истории словесности. Ясно, что до «главного» руки доходили не всегда.

Двадцать лет назад, 30 июня 1958 года, известный лермонтовед проф. Семенов обратился к группе ленинградских литературоведов с предложением создать совместно «Лермонтовскую энциклопедию» — всесторонний свод данных о биографии Лермонтова, его творчестве, эпохе, о связях его наследия с русской литературой и литературами других народов, наконец, об истории восприятия его творчества последующей литературой, наукой и искусством.Л. П. Семенов скончался, не успев принять участие в осуществлении этого обширного замысла.

Творчество Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) явилось высшей точкой развития русской поэзии послепушкинского периода и открыло новые пути в эволюции русской прозы. С именем Лермонтова связывается понятие «30-е годы» — не в строго хронологическом, а в историко-литературном смысле, — период с середины 20-х до начала 40-х годов. Поражение декабрьского восстания породило глубокие изменения в общественном сознании; шла переоценка просветительской философии и социологии, основанной на рационалистических началах, — но поворот общества к новейшим течениям идеалистической и религиозной философии (Шеллинг, Гегель) нес с собой одновременно и углубление общественного самоанализа, диалектическое мышление, обостренный интерес к закономерностям исторического процесса и органическим началам народной жизни.

Книга Э. Г. Герштейн «Судьба Лермонтова» не нуждается в специальных рекомендациях. Это — явление советской литературоведческой классики, одна из лучших книг о Лермонтове, которые созданы в мировой науке за все время существования лермонтоведения. Каждая глава в этой книге — открытие, опирающееся на многолетние разыскания автора, причем открытие, касающееся центральных проблем социальной биографии Лермонтова.

Публикуемые ниже стихотворные отклики на смерть Пушкина извлечены нами из нескольких рукописных источников, хранящихся в фондах Рукописного отдела Пушкинского Дома. Разнородные по своему характеру и породившей их литературно-общественной среде, они единичны и в исследовательском отношении «случайны» и, конечно, не в состоянии дать сколько-нибудь целостную картину борьбы различных социальных групп вокруг имени поэта. Тем не менее известные штрихи к такого рода картине они могут добавить и при всех своих индивидуальных различиях имеют нечто общее, что позволяет объединять их не только по тематическому признаку.
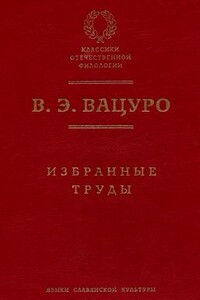
О литературном быте пушкинской поры рассказывается на материале истории литературного кружка «Сословие друзей просвещения». Приводится обширная корреспонденция членов кружка: Е. А. Баратынского, А. А. Дельвига, В. И. Панаева, О. М. Сомова.

«Русский Мицкевич» — одна из центральных тем русско-польских литературных взаимоотношений, и совершенно естественно стремление исследователей сосредоточиться прежде всего на ее вершинных точках. Проблеме «Пушкин и Мицкевич», в меньшей степени — «Лермонтов и Мицкевич» посвящена уже обширная литература. Значительно меньше изучена среда, создававшая предпосылки для почти беспрецедентной популярности, которой пользовалось имя польского поэта в русской литературе и русском обществе 1820-х гг., — популярности, совпавшей со временем пребывания Мицкевича в Одессе, Москве и Петербурге.Предлагаемые читателю заметки — попытка литературно-исторического комментария к некоторым текстам Мицкевича и эпизодам их восприятия и интерпретации.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

В № 2 журнала «Звезда» за 1998 год помещена статья Л. С. Салямона «Пушкин: „Эпиграмму припишут мне…“». По поводу эпиграммы «На Александра I» и послания «Ты и я».Статья эта требует специального разбора по нескольким причинам.

«…Мне кажется, что пора снять ореол какой-то святости, мученичества и величия с фигуры Горбачева. Это заурядный партийный работник, в силу обстоятельств попавший в историю и содействовавший развалу огромного советского государства. Никакого отношения к развитию демократии и преобразованиям он не имеет. Если бы не было Горбачева — был бы другой. Общество должно было пройти через реформы. Если бы не было Горбачева, может быть, эти реформы пошли бы более удачно, более эффективно».Р. И. Хасбулатов.
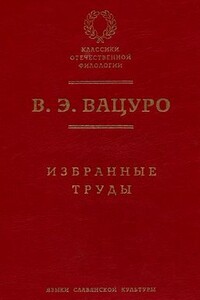
Впервые в нашей литературе воссоздана история одного из значительнейших явлений книжного дела в XIX в. — альманаха, объединившего лучшие силы литераторов пушкинского круга.Живо обрисованы встающие за страницами издания литературные события и отношения, связи и судьбы Пушкина, Дельвига, Вяземского, Баратынского и др.Автор широко использует переписку, мемуары, официальные документы. Книга написана в форме свободных непринужденных очерков. Адресована специалистам, но интересна и широким кругам книголюбов.

«Давыдов, как поэт, решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии», — писал в 1840 году Белинский, заключая свой обширный очерк литературной деятельности «поэта-партизана», — лучший памятник, который поставила ему русская критическая и эстетическая мысль XIX века.