Избранные стихотворения - [4]
Совпадения в жизни поэта бывают случайны.
Не случайны их последствия.
Зависть менее одаренных, а то и просто бездарных литераторов сопровождала его более полувека. Им было, чему завидовать. Проза захватила его, увлекла, давалась, по видимости, легко, завоевывала читателей, творила образ одного из самых ярких сочинителей, притом сочинителя вполне советского.
Он давал к тому повод. И тем, что верил – до поры – в захватившие смолоду идеи. И тем, что, защищаясь от всегда готовых вцепиться в него критиков, не раз – и сознательно – подчеркивал, как он сам говорил много позже, «свою официальную преданность власти».…Стихи отступили. Издали наблюдали, как возникают рассказы, романы, пьесы, сценарии, как создается их автору репутация писателя политически лояльного, даже конформиста, купающегося в успехе и благополучии, равнодушно-циничного к окружающим. А литературная репутация – штука на редкость устойчивая, истинная, ложная ли – неважно.
Стихи ждали своего часа, когда поэту станет вдруг не до прочего сочинительства, когда накатанный ход вещей нарушится – событием, драмой, трагедией.
Через год после гибели Маяковского они вернулись – прощанием с Командором:Где он был после этого? Кто его знает! Иные
Говорят – отправлял телеграмму, побрился
и ногти остриг.
Но меня на прощанье облапил, целуя впервые,
Уколол бородой и сказал: «До свиданья, старик»…
В русской поэзии есть стихи, возникшие из прозы, когда смерть близкого – из самых-самых – человека не позволяет поэту рифмовать и ритмизировать, только – записать что чувствуешь, видишь, переживаешь. Только – что, не думая – как.
Такова корявая запись Державина, которая позже станет стихами на смерть жены.
Таковы стихи Жуковского о мертвом Пушкине – перевод на язык поэзии страницы письма к отцу погибшего поэта.
Обратных примеров я не знаю. Кроме этого. Десятилетия спустя стихотворение «Маяковский» проступит, узнается в прозаическом описании последней встречи с Командором…Пятью годами позже, в канун тридцать седьмого:
Небо мое звездное,
От тебя уйду ль? —
Черное. Морозное,
С дырками от пуль.
А репутация затвердевала, окаменевала, подкрепленная «правильными» выступлениями, «советскими» повестями и романами, вроде «Время, вперед!»…
Но вот – строка из допроса арестованного Мандельштама. Семнадцатое мая 1938 года.
На вопрос следователя – кто поддерживал его материально в четыре года ссылки, меж двух арестов, поэт называет ленинградцев Тынянова, Чуковского, Зощенко, Стенича, москвичей братьев Катаевых, Шкловского, Кирсанова.
В таком именно порядке.
И одна протокольная запись эта, по мне, перевешивает всю катаевскую «лояльность», весь «конформизм», которые никак и ни на что не могли повлиять, а вот это – могло. Например, на появление гениальных «Воронежских тетрадей».…В следующий раз стихи вернулись к нему во время войны – отличным «среднеазиатским» циклом, «Каждый день, вырываясь из леса…», «Соловьями».
И отозвались – эхом – в прозе.
О первом послевоенном – одесском – рассказе Катаева «Отче наш» Липкин писал: «Он как молитва: в нем нет ни одного лишнего слова. Он как стихи: в нем есть музыка и мера»…Катаев, изощренно-внимательный к форме всего, что пишет, в разгар кампании по «борьбе с формализмом», оправдывается, демонстрирует готовность «перековаться».
«..Я хочу, чтобы слово с максимальной точностью (эпитет, пожалуй, слишком демонстративен, «официален». – В. П. ) соответствовало мысли, которая в нем заложена. Я хочу изгнать из романа метафору, этот капустный кочан, эту словесную луковину, в которой «триста одежек, и все без застежек», и в которой вместо сердцевины – пустота»…
И, выругав метафору по полной программе (и, кстати говоря, вполне «метафорически»), словно бы спохватывается: «А может быть, я заблуждаюсь, и метафоричность – это единственное, что есть ценного в литературе?»
Он, работающий с метафорой виртуозно и с видимым наслаждением, не устает удивляться ее способности разворачиваться до полновесного абзаца на треть, а то и на половину страницы и туго-натуго сворачиваться – до нескольких коротких строк, как в одном из последних стихотворений:Бессмертию вождя не верь.
Есть только бронзовая дверь,
Во тьму открытая немного,
И два гвардейца у порога.
И дата – 1952. Ассоциация слишком рискованна. Не спасает и заглавие: «Могила Тамерлана». Помещая четверостишие в последний, девятый том собрания сочинений, Катаев добавляет подзаголовок: «Картина Верещагина» и сдвигает дату на десять лет, 1942, отсылая тем самым стихи к «среднеазиатскому» циклу. Разумеется, зная, что у Верещагина – «Двери Тимура (Тамерлана)», и что лучников в живописных халатах по обе стороны дверного проема назвать «гвардейцами» – условность, так скажем, чересчур поэтическая. Позже, в рукописи, он восстановит дату и выправит, усилит первый стих: «Бессмертью гения не верь»…
Больше стихов не было. Был журнал «Юность», созданный редактором Катаевым в пятьдесят пятом. Журнал, которому крайне сложно было конкурировать с другими, постарше, потому что козырять маститыми не мог, да и не больно-то хотел, печатал только молодых, новых, многие из коих давно уже общеизвестны. Единственный

В книгу выдающегося советского писателя Валентина Катаева вошли хорошо известные читателю произведения «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи», с романтической яркостью повествующие о юности одесских мальчишек, совпавшей с первой русской революцией.
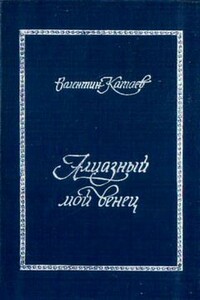
В книгу выдающегося советского писателя вошли три повести, написанные в единой манере. Стиль этот самим автором назван «мовизм». "Алмазный мой венец" – роман-загадка, именуемый поклонниками мемуаров Катаева "Алмазный мой кроссворд", вызвал ожесточенные споры с момента первой публикации. Споры не утихают до сих пор.
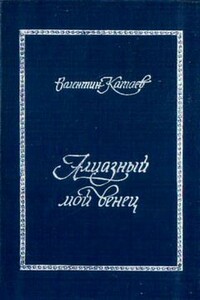
В книгу выдающегося советского писателя вошли три повести, написанные в единой манере. Стиль этот самим автором назван «мовизм». По словам И. Андроникова, «искусство Катаева… – это искусство нового воспоминания, когда писатель не воспроизводит событие, как запомнил его тогда, а как бы заново видит, заново лепит его… Катаев выбрал и расставил предметы, чуть сдвинул соотношения, кинул на события животрепещущий свет поэзии…»В этих своеобразных "повестях памяти", отмеченных новаторством письма, Валентин Катаев с предельной откровенностью рассказал о своем времени, собственной душевной жизни, обо всем прожитом и пережитом.
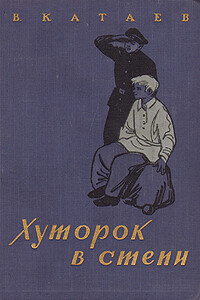
Роман «Хуторок в степи» повествует с романтической яркостью о юности одесских мальчишек, совпавшей с первой русской революцией.

Приключения девочки Жени, в результате которых ей в руки попадает волшебный цветок. Оторвав один из семи лепесток волшебного цветка, можно загадать желание.
