Избранные письма. 1854-1891 - [3]
Леонтьев сетовал, что его идеи и миросозерцание именуют то «больными», если уважают, то как выдающуюся странность, как достойную музея аномалию. Но сам он любил прежде всего своеобразие, и именно своеобразие не отрицаемо в его миросозерцании. Каждый мыслитель инстинктивно мечтает найти верную мысль, а находит чаще всего — своеобразную. Если же изначально рассчитывает лишь на эффект оригинальности, то становится парадоксалистом, роняет высокий сан мыслителя. Леонтьев не хотел «в парадоксалисты», слишком верил в истинность того, что утверждал, но оригинальность прирастала к его идеям, а их отношения с истиной были по крайней мере прохладными и запутанными. Это и есть судьба идей Леонтьева — становиться и оставаться прежде всего оригинальными, приносить не столько «головокружение» от истины, сколько глоток новизны. Новизна и оригинальность — то, чего ждут от творений художника (не бывает «правильных» повестей, стихотворений, романов, хотя бывают — и должны быть — правильные суждения, мысли, идеи). Художником Леонтьев становился в публицистике, в историософских построениях, но — в значительной мере помимо собственной воли и в достаточно трагическом смысле; оригинальные суждения и идеи смыкались с как бы декоративными. И что ж, это было закономерно — навеянные эстетикой, эстетическим мировосприятием, они несли в себе всю «бесполезность красоты».
Леонтьев не менее остро, чем поэты классовой борьбы, предвидел чреватые революцией битвы труда и капитала. Революцию он не терпел как порочное всесмешение, которое непременно лишит мир красок, уравняет все и вся — красивое и некрасивое, юношеское и старческое, умное и глупое: «Европейская революция есть всеобщее смешение, стремление уравнять и обезличить людей в типе среднего, безвредного и трудолюбивого, но безбожного и безличного человека, — немного эпикурейца и немного стоика».[5] Страстно — устойчивая российская традиция — ненавидел Леонтьев мещанство, благополучный средний класс, живущий, как ему казалось, некой усредненной жизнью. Эстетически любя необычайное, Леонтьев готов был принять необычайную бедность, необычайное богатство, необычайное рабство и необычайную власть — лишь бы не торжествовала так называемая золотая середина, которую Леонтьев воспринимал как что-то бескрасочное, как, в сущности, этакое бескачественное качество или, выражаясь нагляднее, бесцветный цвет. Но не так просто было отдать предпочтение красочной, но неблагополучной жизни не в идеях, д как ежедневное личное существование — в письмах Леонтьева много горьких слов о безденежье, хотя, живя в монастырях или при монастырях в старости, а тем более служа дипломатом на «пряном» Ближнем Востоке или участвуя как военный врач в Крымской кампании в середине 1850-х годов, он жил жизнью колоритной, и надо признать, именно к такой жизни тянулся. Расставание с «презренным благополучием» не оказывалось слезным прощанием, но, например, месту цензора — конечно, как чувствовал сам Леонтьев, казенно-пошлому — он был рад. В конце концов, на экзотику личной жизни в зрелые годы Леонтьеву просто не хватало физических сил — после 1872 года он много болел и (некая связь здесь проглядывает) много тосковал и о своей, и о всемирной старости.
Мировосприятие Леонтьева ценно как тонкий и точный барометр жизненной пошлости — стоит появиться на горизонте европейской жизни сытому и самодовольному «человеку во фраке», как Леонтьев от имени всей эстетики жизни приходит в понятное негодование: не похож этот человек ни на чудного своей живописностью восточного вельможу, ни на гордого средневекового рыцаря, ни на трогательно смиренного крестьянина, ни даже на разухабистого самодура помещика, в которых была ощутима эстетическая изюминка. Не учитывал Леонтьев лишь того, что колоритен, скажем, восточный вельможа — для европейца, мечтательно живописен средневековый рыцарь — для человека нерыцарских времен, что — обобщая — эстетически живописно лишь то, что по крайней мере редко встречается (желательно же — уникально), то, чего не видит или не имеет человек в своей повседневности. Даже самая безупречная красота — надоедает, а скучное уже не прекрасно. Разлившись по жизни, красота, о которой тосковал Леонтьев, в значительной мере перестала бы восприниматься как красота — привыкнуть к красоте значит похоронить ее. Идеи Леонтьева неосуществимы потому, что красота — одно из измерений жизни, существующее, пока существуют и другие. Не стоит думать, что все относительно (хотя очень многое, увы, относительно — больше, чем люди согласны признать), и чтобы, например, оценить красоту прекрасной женщины, надо непременно быть коротко знакомым с уродливыми и т. п. Леонтьев в конечном счете мог быть даже прав в том, что красота может победить, что только к ней и стоит стремиться, что она даже и не надоест, если без «чревоточия»— ведь есть же примеры неувядающей красоты художественных произведений, не надоедающей красоты вечных городов (таких, как Рим), и их можно посчитать прообразами бессмертной и победившей красоты. Но как бы то ни было, красота — вершина, за которой уже ничего нет. Рыцарь потому и кажется прекрасным, красивым красотой всего романтического (а не злым и грубым, к примеру), что он — в далеком прошлом и не в состоянии принести разглядывающему его где-нибудь на гравюре человеку ни вреда, ни пользы. Все хотят, допустим, украсить свой дом или город, а если они и так прекрасны? Лишь сохранить или прославить, удовлетворившись уже достигнутым, оберегая то, что есть. И на будничном, и на философском уровне ощутимо, что красота, обладание ею (как и само счастье) ставят точку на человеческих стремлениях, венчают жизнь и есть потому прообраз ее конца.
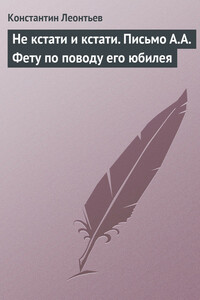
«…Я уверяю Вас, что я давно бескорыстно или даже самоотверженно мечтал о Вашем юбилее (я объясню дальше, почему не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители Вашего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать Ваш юбилей, радость моя и лично дружественная, и, так сказать, критическая, ценительская радость была отуманена, не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А.
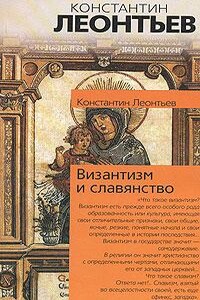
Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
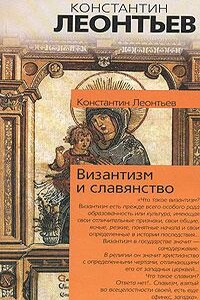
Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
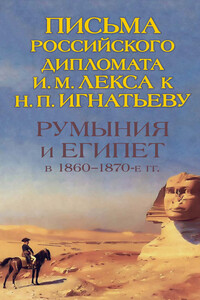
В книге впервые публикуются письма российского консула И. М. Лекса выдающемуся дипломату и общественному деятелю Н. П. Игнатьеву. Письма охватывают период 1863–1879 гг., когда Лекс служил генеральным консулом в Молдавии, а затем в Египте. В его письмах нашла отражение политическая и общественная жизнь формирующегося румынского государства, состояние Египта при хедиве Исмаиле, состояние дел в Александрийском Патриархате. Издание снабжено подробными комментариями, вступительной статьей и именным указателем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.