Избранное - [16]
Но было уже поздно. Натыкаясь на стулья, он боком подошел к Машеньке и подал записку. Она прочитала и подняла на него глаза.
— Ваша подруга не пришла, — сказал Трубачевский так громко, что Неворожин притворно вздрогнул и улыбнулся. — Помните, вы меня просили? Она не пришла.
Машенька не поняла.
— От Наташи? — спросила она и развернула записку.
— Да нет, — почему-то еще громче сказал Трубачевский. — Это вы написали и просили передать. А она не пришла.
Машенька поняла наконец, в чем дело.
— Ах, это моя записка! Да куда же вы уходите, подождите. Вы знакомы?
Неворожин поздоровался с ним, как с маленьким, не вставая с дивана. С осторожной повадкой высоких людей Дмитрий протянул ему большую мягкую руку.
— Ага, ты даже не знаешь, кто это! — сказала Машенька. — Вот видишь, товарищ Трубачевский работает у нас три недели, бывает ежедневно, а ты даже не знал об этом. Признайся — не знал?
— Не знал, — согласился Дмитрий.
— И после этого ты будешь утверждать, что я не права?
— Буду.
— А ты знаешь, как это называется? Ханжеством, — с досадой объявила Машенька и даже бросила тряпку на пол.
— Хуже, — сказал Неворожин. — Это называется недальновидностью.
Должно быть, в этом слове был для Дмитрия особенный смысл, потому что он взглянул на Неворожина как-то странно и побледнел. Он и без того был бледен, но теперь побледнел еще больше и стал косить. И Машенька, без сомнения, знала за ним эту черту, потому что вдруг испугалась и посмотрела на брата успокаивающими глазами.
На минуту все замолчали, потом Трубачевский пробормотал довольно некстати:
— Я, кажется, помешал?
— Да нет, — тоже пробормотала Машенька и махнула рукой с таким видом, что это, мол, не первый разговор и не последний.
Потом она проводила его до двери, простилась, и он ушел…
Таков был этот дом, в котором все казалось ему увлекательным и новым. Он наблюдал его только по утрам. Поэтому он долго не видел и не понимал того, что дом этот был неблагополучен, шаток, что семьи уже не было, что все жили по-разному и уже не очень понимали, хотя еще и любили, друг друга.
Чтение архивных рукописей — дело, которое на первый взгляд кажется необычайно скучным. Самое слово «архив» вызывает представление о высоких старинных залах, в которых хранятся полусъеденные крысами документы, о стареньких архивариусах, которые горбятся за столами и переписывают отношения, с большим трудом заставляя себя вместо «милостивый государь мой» написать «дорогой товарищ».
Все это, разумеется, вздор! Чтение рукописей — это увлекательное и азартное дело. Это сложная игра, в которой исследователь, вмешиваясь в чужую и далекую жизнь, открывает такие ее стороны, которые были скрыты от современников — с намерением или случайно. Это искусство, которое опирается более на чутье и талант, чем на правила или законы.
Вот перед нами запутанный, перемаранный черновик: слово нагромождено на слово, одна строка надписана над другой, и обе зачеркнуты, как бы в нерешительности или волнении. Попробуйте уложить вставку в разорванный, беспорядочный текст, и по меньшей мере десяток мест представится вам с одинаковой вероятностью. В полном беспорядке лежат перед вами начатые и брошенные фразы, строки, в которых оставлены пробелы, условные, почти стенографические знаки, заменяющие слова.
Подите разберитесь во всей этой паутине тысячу раз зачеркнутых и восстановленных слов, во всех неясных мыслях, едва дошедших до бумаги!
Вот почему Пушкина научились читать с таким трудом и лишь в последние годы. Его читали плохо до тех пор, пока не были поняты все возрасты этого почерка, все его радости и обиды.
Трубачевский знал уже почти все, что было напечатано об Охотникове, он выписал на карточки даже случайные упоминания о нем в мемуарах декабристов, в исторических журналах, в научных трудах. Но в сравнении с бауэровским архивом сведений было так мало, что он вскоре бросил эти розыски и с головой ушел в чтение рукописных документов.
Первое время он совершенно растерялся среди оборванных на полуслове бумаг, среди писем, перепутанных со счетами из книжной лавки, среди случайных набросков, которые найдутся в любом личном архиве, а в этом были особенно разрозненны и бессвязны. Деловые бумаги были перемешаны с черновиками каких-то статей, страницы из дневника, заметки, письма были так бесконечно далеки друг от друга, что, если бы они не были написаны тою же рукой, нельзя было бы вообразить, что они принадлежат одному человеку.
В таком-то рассыпанном виде предстала перед Трубачевским жизнь человека, которого он изучал: как будто шахматная партия была прервана ударом по доске, фигуры смешаны и сбиты, — по случайно оставшимся ходам нужно было восстановить положение.
Перепутаны были не только бумаги, но и годы: детство шло вслед за отрочеством, письма женщин (которые Трубачевский читал, разумеется, с особенным интересом) лежали между страницами, исписанными старательной детской рукой.
Хорошо было старику, который так знал почерк Охотникова, что мог с одного взгляда определить, к какому времени относится автограф! Он как бы нюхал бумагу и смотрел на нее не в частности, а вообще, на всю сразу и, по своему обыкновению, через кулак, который приставлял к правому глазу, а потом, не задумываясь, говорил:

Действие повести происходит в первые дни Великой Отечественной войны на Северном Флоте. Молодой лейтенант Сбоев откомандирован на борт старенького парохода «Онега», чтобы сопровождать груз с оружием. Помимо этого пароход принимает на борт группу заключенных, которых везут на строительство военного аэродрома. Во время следования до места назначения часть заключенных планирует захватить судно и бежать в Норвегию. Бунт в открытом море — это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями.
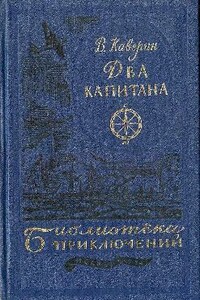
В романе «Два капитана» В. Каверин красноречиво свидетельствует о том, что жизнь советских людей насыщена богатейшими событиями, что наше героическое время полно захватывающей романтики.С детских лет Саня Григорьев умел добиваться успеха в любом деле. Он вырос мужественным и храбрым человеком. Мечта разыскать остатки экспедиции капитана Татаринова привела его в ряды летчиков—полярников. Жизнь капитана Григорьева полна героических событий: он летал над Арктикой, сражался против фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось терпеть временные поражения, но настойчивый и целеустремленный характер героя помогает ему сдержать данную себе еще в детстве клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.
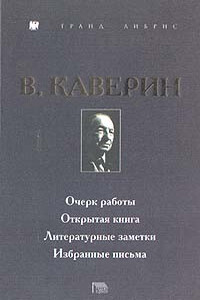
Роман рассказывает о молодом ученом Татьяне Власенковой, работающей в области микробиологии. Писатель прослеживает нелегкий, но мужественный путь героини к научному открытию, которое оказало глубокое влияние на развитие медицинской науки. Становление характера, судьба женщины-ученого дает плодотворный материал для осмысления современной молодежью жизненных идеалов.
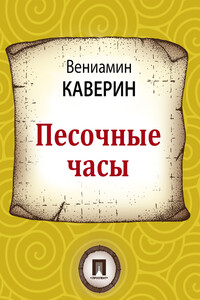
Действие сказки происходит в летнем лагере. Главные герои – пионеры Петька Воробьев и Таня Заботкина пытаются разгадать тайну своего вожатого по прозвищу Борода, который ведет себя очень подозрительно. По утрам он необыкновенно добрый, а по вечерам становится страшно злым безо всяких причин. Друзьям удается выяснить причину этой странности. Будучи маленьким мальчиком он прогневал Фею Вежливости и Точности, и она наложила на него заклятье. Чтобы помочь своему вожатому ребята решили отправиться к фее.
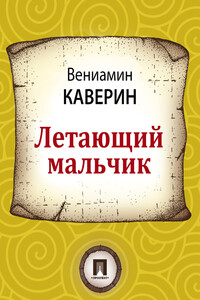
В немухинской газете появилось объявление, что для строительства Воздушного замка срочно требуются летающие мальчики. Петьке Воробьеву очень хочется поучаствовать в этом строительстве, но, к сожалению, он совсем не умеет летать. Смотритель Маяка из волшебной страны Летляндии, подсказывает Петьке, что в Немухине живет, сбежавший из Летляндии, летающий мальчик Леня Караскин, который может дать Петьке несколько уроков летного мастерства.

Его арестовали, судили и за участие в военной организации большевиков приговорили к восьми годам каторжных работ в Сибири. На юге России у него осталась любимая и любящая жена. В Нерчинске другая женщина заняла ее место… Рассказ впервые был опубликован в № 3 журнала «Сибирские огни» за 1922 г.
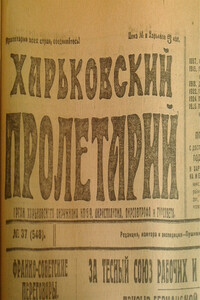
Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.
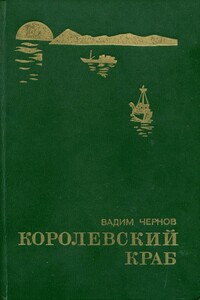
Прозаика Вадима Чернова хорошо знают на Ставрополье, где вышло уже несколько его книг. В новый его сборник включены две повести, в которых автор правдиво рассказал о моряках-краболовах.
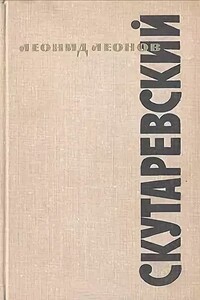
Известный роман выдающегося советского писателя Героя Социалистического Труда Леонида Максимовича Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в нашей стране в конце 20-х — начале 30-х годов. Основа сюжета — идейное размежевание в среде старых ученых. Главный герой романа — профессор Скутаревский, энтузиаст науки, — ценой нелегких испытаний и личных потерь с честью выходит из сложного социально-психологического конфликта.
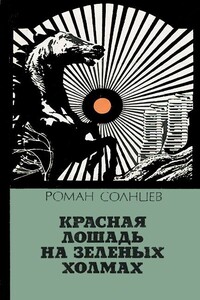
Герой повести Алмаз Шагидуллин приезжает из деревни на гигантскую стройку Каваз. О верности делу, которому отдают все силы Шагидуллин и его товарищи, о вхождении молодого человека в самостоятельную жизнь — вот о чем повествует в своем новом произведении красноярский поэт и прозаик Роман Солнцев.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.