Избранное - [9]
И это относится не только к политике церковной верхушки. Целибатное духовенство на Западе – это сословие, которое в каждом государстве «подчиняется иному начальнику», которое блюдет свои права и привилегии, охраняемые таким образом и извне – со стороны папской власти, и изнутри. И это, естественно, влияет на другие сословия. Если права одной группы в обществе гарантированы, системы всеобщего подчинения уже создать невозможно. Напротив, обремененное семьями и передающее свою профессию по наследству духовенство, с одной стороны, в силу фактического наследования профессии относительно изолировано от других слоев общества, но, с другой стороны, более сковано чисто экономическими интересами, необходимостью кормить семьи и так же стремится «прислониться» к сильным мирянам, как верхушка церкви «прислоняется» к государям. А представим себе на минуту вместо нашего монашества, занятого аскетическими подвигами и хозяйственной деятельностью, централизованные, подчиненные Риму, ориентированные на деятельность «в миру» и интернациональные католические ордена. Одним словом, даже помимо сознательной политической линии церковных иерархий различные организационные структуры церкви сами по себе – своим «примером», своей ежедневной деятельностью и ежедневным проявлением своих организационных и социальных интересов – способствовали на Западе относительной слабости государственной монархической власти, в России – становлению централизованной абсолютистской монархии.
Но, как и византийский император, русский великий князь, затем царь наталкивается в своем всевластии на институционально, «конституционно» не фиксируемую, но очень ощутимую границу, также создаваемую православием. Государь может все. Он может сам назначать на высшие церковные должности и прогонять неугодных ему иерархов. Он может даже преступать церковные каноны, как Василий III, разведшийся, несмотря на запрещение восточных иерархов, со своей бесплодной женой. Он может устроить кощунственно-шутовскую кровавую оргию, как Иван Грозный. Но если он будет нарушать «церковное предание», а «предание» это мыслится в средневековой Руси крайне широко – как совокупность всех устоявшихся норм и обычаев, обличители поднимутся со всех сторон и люди с готовностью пойдут на плаху. Иван Грозный совершенно безнаказанно залил страну кровью, ни с каким серьезным сопротивлением не столкнувшись (обличения митрополита Филиппа были актом героическим, но никакой реальной опасности не представлявшим), однако пересмотр богослужебных книг при Алексее Михайловиче, воспринятый значительной частью народа как отступление от православия, привел страну вплотную к гражданско-религиозной войне и породил мощное движение раскола с его беспримерным героизмом и постоянными потенциями перехода в открытые бунты. Но здесь мы подходим к другой проблеме – проблеме влияния православия на особенности культурного развития Руси и ее становящееся все более заметным к концу Средневековья отставание от Западной Европы в сфере научных (и протонаучных, подготавливающих возникновение науки Нового времени) и технических знаний.
Эта относительная слабость средневековой России в научной и технической сфере по сравнению с Западом выявляется почти строго параллельно росту самодержавного централизованного государства. Ее почти нет в киевский период. В московский она становится все заметнее. А XVII веке превращается для России в серьезную проблему, что ведет в конечном счете к петровским преобразованиям. На наш взгляд, можно указать на роль в этом отставании особенностей восточной ветви христианства.
Прежде всего единая интернациональная католическая церковная организация предполагает постоянные контакты духовенства разных стран (а в Средние века «духовенство» – это интеллигенция) друг с другом, а это значит – постоянный обмен информацией, соотнесение своих проблем и идей с проблемами и идеями, возникающими в иных условиях, в иных этнических и государственных образованиях, входящих в средневековый католический мир. Между тем после достижения русской церковью автокефалии контакты русского духовенства с православным же, но нерусским стали почти «не нужны» и свелись к минимуму. Так, уже сами организационные особенности православия в какой-то мере способствуют культурной замкнутости.
Этой замкнутости еще больше способствует славянский язык богослужения. Латинский язык католической церкви, во-первых, создавал основу для постоянного обмена информацией и культурными достижениями, во-вторых, давал возможность знакомства с дохристианской античной мыслью. Греческий язык византийской церкви также открывал для культурных византийцев мир античной мысли. Между тем славянский ограничивал возможности общения даже со своими православными братьями. Русское духовенство после достижения автокефалии не только не испытывает особой нужды общаться с греками, особого желания такого общения, оно просто не может этого, ибо греческого не знает почти никто. Недаром Библия Геннадия Новгородского содержит переводы с вульгаты (знающие латынь были, ибо латынь – язык дипломатии). Православное государство с автокефальной церковью и со славянским языком богослужения было обречено в культурном отношении «вариться в собственном соку».

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.
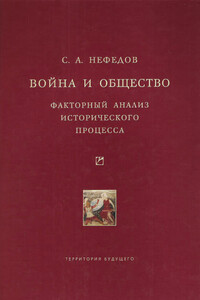
Монография посвящена анализу исторического процесса в странах Востока в контексте совокупного действия трех факторов: демографического, технологического и географического.Книга адресована специалистам-историкам, аспирантам и студентам вузов.

ЛИППС (Lipps) Теодор (1851-1914) – немецкий философ, психолог, логик и эстетик. Профессор (1884). Один из создателей современной психологии и базисных представлений о бессознательном психическом и его роли в организации человеческой жизнедеятельности. После получения высшего образования работал приват-доцентом в Боннском университете. С 1884 – профессор Боннского университета, с 1890 профессор университета в Бреслау, с 1894 – профессор Мюнхенского университета. Основал Мюнхенский психологический институт.
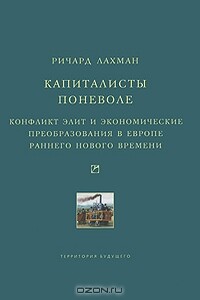
Ричард Лахман - профессор сравнительной, исторической и политической социологии Университета штата Нью-Йорк в Олбани (США). В настоящей книге, опираясь на новый синтез идей, взятых из марксистского классового анализа и теорий конфликта между элитами, предлагается убедительное исследование перехода от феодализма к капитализму в Западной Европе раннего Нового времени. Сравнивая историю регионов и городов Англии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов на протяжении нескольких столетий, автор показывает, как западноевропейские феодальные элиты (землевладельцы, духовенство, короли, чиновники), стремясь защитить свои привилегии от соперников, невольно способствовали созданию национальных государств и капиталистических рынков в эпоху после Реформации.
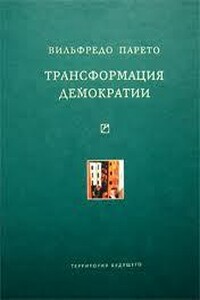
В своей работе «Трансформация демократии» выдающийся итальянский политический социолог Вильфредо Парето (1848–1923) показывает, как происходит эрозия власти центрального правительства и почему демократия может превращаться в плутократию, в которой заинтересованные группы используют правительство в качестве инструмента для получения собственной выгоды. В книгу также включен ряд поздних публицистических статей Парето.