Избранное - [115]
Рассказывают, будто я, как только подскакивала температура, начинал заговариваться. Но откуда им знать, когда я говорил, а когда заговаривался? Мои многоуважаемые читатели, пасясь на зеленых лугах своего добронравия, сейчас обеспокоенно вскидывают головы: вместо привычного тявканья логики им словно бы чудится волчий вой. (Впрочем, какие читатели — ведь я пишу для себя!) И в самом деле, кто же их надоумит, когда я изъясняюсь разумно, а когда завираюсь, если я и сам ничего прояснить не могу. Не только физиологический раствор говорит в человеке, когда он облекает в слова свои жалобы, — разогретая до сорока градусов, клетка также способна к безумной отваге. Заговаривался?.. а может, просто был откровенен? Быть может, раскаленная клетка выбалтывает то, в чем при обычной, тепленькой температуре признаться не смеет?
Во всяком случае, выздоровев, я прислушивался с величайшей подозрительностью, когда речь заходила о том, каков я был в бессознательном состоянии, и цитировался мой горячечный бред. Уж не выдал ли я себя? Сколько потребовалось времени — почти восемьдесят лет, — пока я, с помощью длившейся бесконечно пластической операции, из веры и разочарований, фактов и миражей, правды и лжи слепил в душе своей ту кажущуюся живой марионетку, с которой в конце концов свыкся настолько, что ныне могу уже отождествлять себя с нею. Я до тех пор играл в верность, пока не стал действительно верен, в правдивость — пока не стал выполнять каждое обещание, в скромность — пока не облупился с меня толстый слой тщеславия, в порядочность — пока половина страны не доверила моему перу свое душевное благоденствие, в человеколюбца — пока… ну-ну, остановись, старина! И аутотренинг имеет границы. Эдак на меня еще наклеят под конец ярлык гуманиста.
Представляю себе, как я лежу в голубой пижаме, с пылающим в жару лицом, а благоговейное собрание вокруг меня — сын, невестка, Жофи, врачи, сестра-сиделка — слушает, покачивая головами, какую я несу околесицу. Счастье еще, что они не записали на магнитофон мои речи о запредельном, то бишь о внутреннем моем мире. Должно быть, верили в изворотливость моих легких и сердца — иными словами, допускали, что выкарабкаюсь. Как бы то ни было, я не подготовился к моему последнему предсмертному слову, кое затем может быть использовано для сборника литературных анекдотов; возможно, я и сам еще не испытывал особого желания упокоиться навечно. А может, просто забыл, что́ именно приготовил миру в виде последнего доброго ему напутствия? Тем более что мир интересуется, как известно, видимостью, а не фактами.
Самая острая пора болезни миновала, но и выздоровление затянулось надолго, так что, за отсутствием работы и прочих занятий ввиду все еще полукондиционного, так сказать, состояния, я имел возможность обратить более пристальное внимание на мою разросшуюся семью, равно как и на окружавший меня внешний мир. О семье моей могу отозваться, увы, только лишь с похвалой. Ее члены не доставили мне даже удовольствия на них поворчать, позабыв хотя бы раз-другой дать мне положенный антибиотик или иное лекарство; они так крепко запеленали меня в заботы о моем здоровье, что я дохнуть не мог самостоятельно. Разумеется, от моего положительного сына Тамаша я не ждал ничего другого; но и пылкая швейцарская девчушка с явной радостью ухватилась за возможность — представившуюся ей, по-видимому, впервые — послужить тому, что общее мнение именует женским призванием, то есть посрамлению и порабощению рода мужского.
Так, я знаю, что в самый разгар болезни, когда высокая температура еще несла иной раз угрозу старому моему сердцу, Тамаш с женой перебрались со своего этажа в соседнюю с моей комнату и даже — если я был беспокоен — сын проводил всю ночь напролет у моей постели, дремля в кресле. С него станется. Еще больше раздражала меня только Жофи, которая еженощно — когда молодые опять перекочевали к себе — входила ко мне, проверяя, не помер ли я. Шаркая ногами, она подступала к самой кровати и, остановись, долго на меня смотрела, потом тихонько, якобы щадя мой сон, начинала смеяться всем своим беззубым ртом. Я знал, откуда такое злорадство: мне все же не удалось опередить ее! Хотя именно в те дни меня одолевала иной раз великая усталость и я не возражал бы, если бы все вокруг меня утихло.
В ту зиму на Пашарети, по крайней мере в нашем доме, было засилье божьих коровок. От того ли, что стояли теплые погоды, от того ли, что им выпала задача восстановить некое биологическое равновесие, как знать; для меня на какое-то время моей болезни они стали развлечением. Я их наблюдал или, лучше сказать, смотрел на них — других-то дел у меня не было. Вот одна всползла ко мне на подушку, к самому лицу; она была сплошное доверие. Без всякого на то права. Или именно в беззащитности — их сила, в неведенье — храбрость? Надо мною по белой стене передвигаются, останавливаются, расправляют хитиновые крылышки крохотные рубины, вот один с легким жужжанием пикирует на мой орлиный нос, который, словно антенна, торчит над осунувшимися в ту пору скулами, выступая значительно дальше обычного. В период выздоровления я стал особенно, непривычно отзывчив ко всему живому, исключая представителей рода людского; я мог часами забавляться, позволяя этим букашкам разгуливать по моим пальцам, перебираться с одного на другой, направлял их то туда, то сюда, пересчитывая у каждой черные пятнышки на блестящих красных спинках. Однажды Жофи застала меня за этой игрой.

В книгу включены две повести известного прозаика, классика современной венгерской литературы Тибора Дери (1894–1977). Обе повести широко известны в Венгрии.«Ники» — согретая мягким лиризмом история собаки и ее хозяина в светлую и вместе с тем тягостную пору трудового энтузиазма и грубых беззаконий в Венгрии конца 40-х — начала 50-х гг. В «Воображаемом репортаже об одном американском поп-фестивале» рассказывается о молодежи, которая ищет спасения от разобщенности, отчуждения и отчаяния в наркотиках, в «масс-культуре», дающих, однако, только мнимое забвение, губящих свои жертвы.
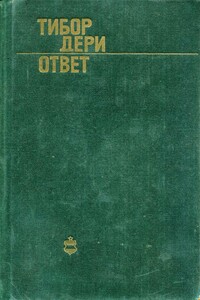
Т. Дери (р. 1894) — автор романов, рассказов, пьес, широко известных не только в Венгрии, но и за ее рубежами. Роман «Ответ» был написан в 1950—1952 гг. В центре повествования — судьбы рабочего паренька Балинта Кёпе и профессора Будапештского университета Зенона Фаркаша; действие происходит в Венгрии конца 20-х — начала 30-х годов со всеми ее тревогами и заботами, с надвигающейся фашизацией, с измученным безработицей, но мужественным, вновь и вновь подымающимся на борьбу рабочим классом.

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно было бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся… Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет ходят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состоится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся?

События в книге происходят в 80-х годах прошлого столетия, в эпоху, когда Советский цирк по праву считался лучшим в мире. Когда цирковое искусство было любимо и уважаемо, овеяно романтикой путешествий, окружено магией загадочности. В то время цирковые традиции были незыблемыми, манежи опилочными, а люди цирка считались единой семьёй. Вот в этот таинственный мир неожиданно для себя и попадает главный герой повести «Сердце в опилках» Пашка Жарких. Он пришёл сюда, как ему казалось ненадолго, но остался навсегда…В книге ярко и правдиво описываются характеры участников повествования, быт и условия, в которых они жили и трудились, их взаимоотношения, желания и эмоции.

Светлая и задумчивая книга новелл. Каждая страница – как осенний лист. Яркие, живые образы открывают читателю трепетную суть человеческой души…«…Мир неожиданно подарил новые краски, незнакомые ощущения. Извилистые улочки, кривоколенные переулки старой Москвы закружили, заплутали, захороводили в этой Осени. Зашуршали выщербленные тротуары порыжевшей листвой. Парки чистыми блокнотами распахнули свои объятия. Падающие листья смешались с исписанными листами…»Кулаков Владимир Александрович – жонглёр, заслуженный артист России.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.
