Из-за девчонки - [90]
Как-то на рассвете катер привез меня к «Красновишерску», который в порту не задерживался.
Перебравшись на палубу, я выдохнула:
– Саша Киселёв…
А мне ответили, что Киселёв ходит вовсе не с ними, а на барже «Октябрь». Я уже настроилась долго и отчаянно горевать, но кто-то крикнул:
– А вы не расстраивайтесь, девушка! «Октябрь» идет за нами, часиков в пять будет в порту.
И правда, в полдень я сидела в его каюте, и был его друг. Саша смущенно бренчал на гитаре, а я писала текст песенки про Ланку для его друга. Потом Саша отобрал у меня этот листок бумаги и написал: «Я тебя…» Зачеркнул он это слово, но все равно я забрала с собой этот драгоценный листок. И не пошла сдавать экзамены.
Зато потом пришло письмо, он писал, что ему скоро в армию, что «ничего у нас ниполучится, девченки так долго ждать парней неумеют и ты меня дождешься разве?». Вопросительный знак был несколько раз обведен чернилами. Я бросилась отвечать ему, а его письмо на радостях показала маме, и она спросила:
– Из каких соображений твой бессмертный возлюбленный не ставит запятых после вводных слов и придаточных предложений?…
И Оле я показала это письмо. Она уже училась в строительном и ездила в институт в город через мост уже не на «Васе», а на других, новеньких автобусах с Генкой Синельниковым, который угощал ее своими бутербродами с колбасой и объяснялся в любви. Бас-гитара был забыт.
Оля сказала, что письмо очень хорошее и не надо терять надежды.
Весной – он уже был в армии – вдруг приехал ко мне в отпуск. Я была на работе, и мама объяснила ему, где это. Я играла на чахленьком пианино в балетном кружке, и мои девочки так и застыли в своих гранд-батманах в воздухе: я перестала играть, когда увидела Сашину круглую голову в окне между кактусом и глицинией…
Мы пришли домой, держась за руки, и мама проигнорировала наши сомкнутые пальцы, но сказала, что она заняла очередь за апельсинами за женщиной в синем пальто с песцом и в очках.
– Не сходите ли вы с Александром – как вас по батюшке? – а мне пора в институт.
Мы пошли, давали по два килограмма в руки, мы взяли четыре и до ночи перешептывались на кухне среди гор апельсиновой кожуры.
– Все равно ты меня не любишь, – убеждал меня он.
– Нет, люблю, – сердилась я, и мы, прислушавшись, быстро целовались.
– Это тебе кажется, – шептал он.
– Прямо уж!..
– Твоя мать будет против. Видела, как она на меня смотрела?
– Ну прямо…
– Ты из армии меня не дождешься. На «гражданке» столько красивых парней!
Я клялась, что дождусь.
– Ну смотри, – говорил он, – все вы так говорите. Если дождешься, сразу женимся, да? И едем в Пермь.
– Ну.
– Спать скоро ляжете? – спросила из комнаты мама. – Саша, я вам на диване постелила.
– Ладно, пошли, а то подумает о нас чего…
– Чего?
– Ну чего-чего… Сама небось знаешь чего.
Утром он проводил меня на работу, поцеловал у Дома пионеров и ушел.
Больше писем не было.
Я медлила у почтового ящика с ужасным чувством, что от него ничего нет. «Комсомолка», письмо маме, квитанция за телефонные разговоры с бабушкой…
С балкона я следила за молоденькой почтальоншей, и едва она входила в наш подъезд, как я скатывалась вниз. Нет! нет!
Тогда я попросила Олю написать ему, что я очень серьезно болею, лежу в больнице; пусть он напишет – и я тут же выздоровею… Ответа не было.
Ответ пришел через несколько месяцев.
Вот и теперь, спустя десять лет, я едва ли найду слова, чтобы рассказать, что это был за ответ.
Это была бандероль с четко написанным обратным адресом: Пермь! Но почерк был не его.
Я растерзала бумагу, и в эту минуту Калхант занес нож над Ифигенией, но боги медлили с ланью.
Все мои письма, присланные назад… Свадебное фото. И клочок бумаги, на котором девочка со свадебного снимка написала так:
Дорогая незнакомая! В нашу с Саней жизнь не лезь, поняла? Только попробуй – и ты у меня узнаешь! Мы решили вернуть тебе все это. Ты красиво писала, а женился он вот на мне…
Я часто думаю о тебе, мальчик, потому что прошлое переплелось с настоящим так тесно, как Лаокоон и его сыновья со змеями, посланными Палладой; все так, но как найти тебе оправдание за ту бандероль, я не придумаю.
Но может быть, та девочка нашла их в твоем письменном столе, в заветном месте, и отослала письма без твоего ведома, а ты обнаружил пропажу, искал, грозился уйти из дому, плакал… Хорошо бы мне поверить, что так оно и было, потому что тогда моя родина останется такой, как я ее помню: ночная веранда, бабочки, лейка, слива, – все будет жить, как жило, – и простимся.
В детстве мы с Борей Горбылем (Борис Горбылевский – мой лучший друг!) мечтали быть золотоискателями. Летом мы целыми днями торчали на берегу узенькой, как ручей, речушки, протекавшей через наш город, и в поисках золотой жилы промыли, наверно, целую гору золотистого речного песка.
А когда мы стали взрослыми (это случилось в прошлом году и совершенно для меня внезапно), то поступили в медучилище – учиться на зубных техников.
Почти два года мы с Борей посещаем училище, а до конца еще столько же «веселеньких» дней, заполненных изучением муляжей и костей, походами на операции, в зубной кабинет и в морг.
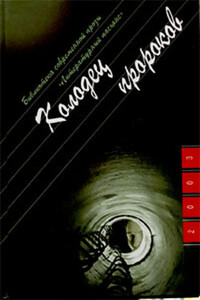
Казалось бы, заурядное преступление – убийство карточной гадалки на Арбате – влечет за собой цепь событий, претендующих на то, чтобы коренным образом переиначить судьбы мира. Традиционная схема извечного противостояния добра и зла на нынешнем этапе человеческой цивилизации устарела. Что же идет ей на смену?

Это беспощадная проза для читателей и критиков, для уже привыкших к толерантной литературе, не замечающих чумной пир в башне из слоновой кости и окрест неё. «Понятие „вор“ было растворено в „гуще жизни“, присутствовало неуловимым элементом во всех кукольных образах, как в девятнадцатом, допустим, веке понятие „православный“. Новый российский мир был новым (в смысле всеобщим и всеобъемлющим) вором. Все флаги, то есть куклы, точнее, все воры в гости к нам. Потом — не с пустыми руками — от нас. А мы — к ним с тем, что осталось.

«sВОбоДА» — попытка символического осмысления жизни поколения «последних из могикан» Советского Союза. Искрометный взгляд на российскую жизнь из глубины ее часового механизма или, если использовать язык символов этого текста, — общественно-политической канализации…«Момент обретения рая всегда (как выключатель, одновременно одну лампочку включающий, а другую — выключающий) совпадает с моментом начала изгнания из рая…» — размышляет герой книги «sВОбоДА» Вергильев. Эта формула действует одинаково для кого угодно: от дворника до президента, даже если они об этом забывают.

В книгу входят две повести: «Остров Гарантии» — остросюжетная повесть с элементами фантастики, и «Проект «АЦ» — фантастическая повесть. Оба произведения посвящены морально-этическим проблемам жизни современных школьников.
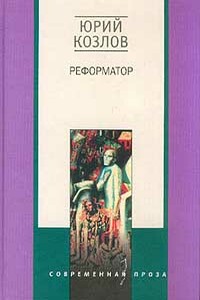
Ведущий мотив романа, действие которого отнесено к середине XXI века, — пагубность для судьбы конкретной личности и общества в целом запредельного торжества пиартехнологий, развенчивание «грязных» приемов работы публичных политиков и их имиджмейкеров. Автор исследует душевную болезнь «реформаторства» как одно из проявлений фундаментальных пороков современной цивилизации, когда неверные решения одного (или нескольких) людей делают несчастными, отнимают смысл существования у целых стран и народов. Роман «Реформатор» привлекает обилием новой, чрезвычайно любопытной и в основе своей не доступной для массовой аудитории информации, выбором нетрадиционных художественных средств и необычной стилистикой.
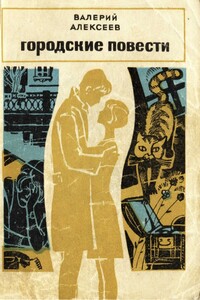
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
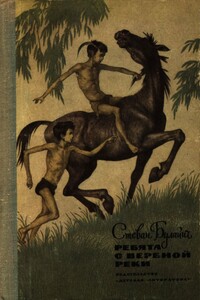
Повесть о жизни югославских ребят, воспитанников Дома сирот войны, о их мужестве и дружбе, которая помогает им выследить и поймать опасного преступника.
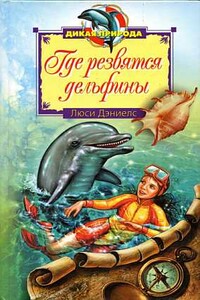
Кто откажется от такого удовольствия? Жить на настоящем океанском судне, учиться в школе по Интернету, но главное — вместе с родителями-учеными исследовать жизнь диких дельфинов! Двенадцатилетней девочке Джоди и ее братьям-близнецам необыкновенно повезло! Ведь им удалось узнать о дельфинах то, что не знает еще никто. А ведь путешествие еще только начинается...

Повесть Тальбота Рида "Старшины Вильбайской школы" сродни книгам о Гарри Поттере, но представляют не сказочный, а вполне реальный рассказ о традиционном английском колледже вроде Итона или Херроу. В этой милой и доброй книжке, написанной со свойственными английской детской литературе увлекательностью и ненавязчивой дидактичностью, мы найдем точно такие же, как в школе волшебства Гарри Поттера соперничающие отделения, спортивные состязания, вызывающие взрыв школьных эмоций, одиннадцатилетних шалунов-первоклассников и семнадцатилетних старшеклассников-старшин, всеобщих кумиров, лучших спортсменов школы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
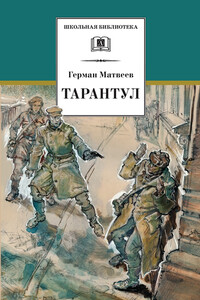
Третья книга трилогии «Тарантул».Осенью 1943 года началось общее наступление Красной Армии на всем протяжении советско-германского фронта. Фашисты терпели поражение за поражением и чувствовали, что Ленинград окреп и готовится к решающему сражению. Информация о скором приезде в осажденный город опасного шпиона Тарантула потребовала от советской контрразведки разработки серьезной и рискованной операции, участниками которой стали ребята, знакомые читателям по первым двум повестям трилогии – «Зеленые цепочки» и «Тайная схватка».Для среднего школьного возраста.

Книгу составили известные исторические повести о преобразовательной деятельности царя Петра Первого и о жизни великого русского полководца А. В. Суворова.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.
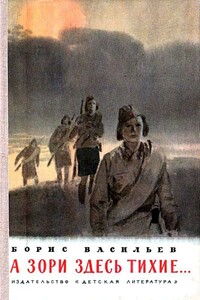
Лирическая повесть о героизме советских девушек на фронте время Великой Отечественной воины. Художник Пинкисевич Петр Наумович.