Иван - [2]
Сначала мать Варвары изливала душу мужу, соседям, а потом не выдержала и отправилась в ближнее село, где жил участковый милиционер.
Разговор с ним был длинным и бестолковым, и женщина уже пожалела, что пришла. Не выразив никакого сочувствия, участковый зачем-то выспрашивал ее: не враждовал ли Егор с сельским начальством. Ничего не добившись, он заставил старуху написать официальное заявление на розыск дочери и отпустил.
Так в селе родилось подозрение на Егора: не он ли расправился с местной властью? Недоумевали: зачем он убил сразу двоих, да и исчез он задолго до случившегося… Поговорили-поговорили, а со временем и говорить перестали. А Егор с Варварой как в воду канули. Даже мать Варвары перестала плакать ночами, ушла в себя, часто болела и только молила Господа Бога забрать ее, как можно скорее к себе.
А вот Василий Лукич, отец Варвары, перебирая в памяти происшедшие события, вдруг вспомнил, как месяца за три до трагедии подъехала к их дому верхом на лошади довольно молодая женщина. И по тому, как она встретилась с Егором, Василий Лукич понял, что они давно знают друг друга, хотя большой радости при встрече не выказывали.
Егор и эта женщина долго сидели на скамейке у заборчика и серьезно беседовали, — настолько серьезно, что Егор потом несколько дней ходил хмурый и подолгу курил, уходя в сад.
Что-то встревожило тогда старика, но что — объяснить он не мог. Хотел было поговорить с зятем, но не было подходящего момента. А потом Егор с Варварой вовсе исчезли.
Рассказать кому-нибудь об этом старик побоялся: затаскают потом. А больше никто эту женщину, оказывается, и не видел: исчезла она так же незаметно, как и появилась.
Василий Лукич заметил только, что ехала она со стороны кладбища, значит, не иначе как через пустырь, а по забрызганным грязью ногам и брюху лошади понял, что путь ее проходил неезжеными тропами — вдоль балок и оврагов. Зачем такая скрытность — простой деревенский мужик сообразить не мог. Много раз потом думал он об этом, но после долгих месяцев, а затем и лет, все ему стало казаться далеким туманным сном, а потом и сон этот позабылся.
Шли годы. Разваливались хутора и села, молодежь разъезжалась в города, старики умирали. Умерла в страшных муках, от рака груди, мать Варвары, так ничего и, не узнав о дочери. Остался один-одинешенек Василий Лукич. Так, по-крестьянски, коротая день за днем, он и жил в своем пустом доме, пока однажды, уже поздней осенью, ночью в злое ненастье, когда хороший хозяин и собаку во двор не выгонит — в окно, выходившее на улицу, кто-то постучал.
Дрогнуло стариковское сердце, заныло под ложечкой, давно забытое чувство тревоги вновь охватило его. Он даже вспомнил как-то разом ту женщину, ее гнедую лошадь, но, подумав, что ему почудилось, настороженно прислушался: гудел ветер, бил в окна сыпучим дождем, поскрипывали оконные незакрытые ставни, в конюшне заржала, брыкнувшись, лошадь. Опять постучали, но уже в окно, выходящее во двор. По большим промежуткам между первым и вторым стуками Василий Лукич понял, что стучался чужой человек: видимо, боится собаки, но собаки у старого крестьянина уж давно не было. Старик вышел в конюшню, зажег свет; лошади, увидя хозяина, тихонько и ласково заржали. Старик подошел к двери и громко спросил:
— Кто там?
— Это я, Иван, внук ваш. Мне дед Коралкин показал, где вы живете, — отозвался слабый юношеский баритон.
— Да внуков-то у меня вроде бы и нету, — ответил старик, но дверь открыл…
Глава вторая
Уже двое суток шли по тайге, иногда выходили на лед небольшой речки, потом снова скрывались в чаще два лыжника. Своим внешним видом они ничем не отличались от обыкновенных охотников: ружья, рюкзаки и другая охотничья амуниция, но темп, с которым люди двигались, говорил о том, что они куда-то спешили.
Идущий впереди был худой и длинный, явно старше второго, шедшего так же размашисто и быстро. Ружья были зачехлены и пристегнуты в походном положении, на ремнях — охотничьи ножи и топоры, внизу рюкзаков болтались видавшие виды котелок и чайник.
Видимо, люди шли давно и издалека. Единственно, чем они отличались от охотников, так это отсутствием собак.
Снег был глубокий и рыхлый, но лыжники шли довольно быстро. А вокруг — вековая тайга. Огромные сосны и ели, припорошенные снегом, свешивали громадные тяжелые лапы, казалось, стукни по стволу, и снег осыплется на вас пуховой лавиной.
Но тихо вокруг, ни ветринки, только и слышны пошаркивания лыж, да натруженное дыхание людей. День клонился к вечеру. Было пасмурно, в небе ни проблеска, и потому темнота надвигалась быстро и решительно. Наконец, у обрыва небольшой сопки путники остановились и начали готовиться к ночлегу. Застучали топорики, и через несколько минут запылал костер. Молодой, зачерпнув снега в чайник, повесил над огнем. Потом, без лишних слов, рядом с костром вытоптали на снегу место. Быстро установили палатку, положили во внутрь изготовленные из медвежьих шкур спальные мешки, уселись на большом, лежавшем вдоль обрыва стволе сосны и, глядя на разгорающийся костер, молча, отдыхали.
— Хорошо как! — блаженно закрыв глаза, нарушил молчание юноша, — так и сидел бы и слушал тайгу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
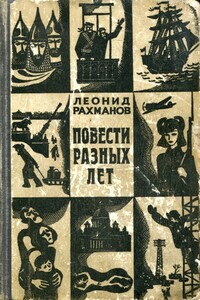
Леонид Рахманов — прозаик, драматург и киносценарист. Широкую известность и признание получила его пьеса «Беспокойная старость», а также киносценарий «Депутат Балтики». Здесь собраны вещи, написанные как в начале творческого пути, так и в зрелые годы. Книга раскрывает широту и разнообразие творческих интересов писателя.
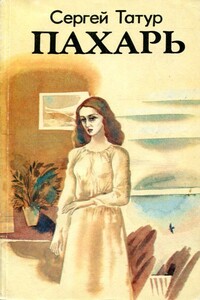
Герои повести Сергея Татура — наши современники. В центре внимания автора — неординарные жизненные ситуации, формирующие понятия чести, совести, долга, ответственности. Действие романа разворачивается на голодностепской целине, в исследовательской лаборатории Ташкента. Никакой нетерпимости к тем, кто живет вполнакала, работает вполсилы, только бескомпромиссная борьба с ними на всех фронтах — таково кредо автора и его героев.

В новом своем произведении — романе «Млечный Путь» известный башкирский прозаик воссоздает сложную атмосферу послевоенного времени, говорит о драматических судьбах бывших солдат-фронтовиков, не сразу нашедших себя в мирной жизни. Уже в наши дни, в зрелом возрасте главный герой — боевой офицер Мансур Кутушев — мысленно перебирает страницы своей биографии, неотделимой от суровой правды и заблуждений, выпавших на его время. Несмотря на ошибки молодости, горечь поражений и утрат, он не изменил идеалам юности, сохранил веру в высокое назначение человека.
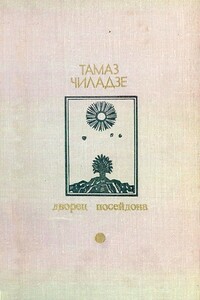
Сборник произведений грузинского советского писателя Чиладзе Тамаза Ивановича (р. 1931). В произведениях Т. Чиладзе отражены актуальные проблемы современности; его основной герой — молодой человек 50–60-х гг., ищущий своё место в жизни.
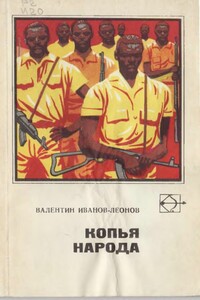
Повести и рассказы советского писателя и журналиста В. Г. Иванова-Леонова, объединенные темой антиколониальной борьбы народов Южной Африки в 60-е годы.
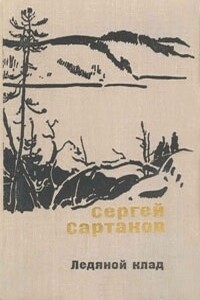
В однотомник Сергея Венедиктовича Сартакова входят роман «Ледяной клад» и повесть «Журавли летят на юг».Борьба за спасение леса, замороженного в реке, — фон, на котором раскрываются судьбы и характеры человеческие, светлые и трагические, устремленные к возвышенным целям и блуждающие в тупиках. ЛЕДЯНОЙ КЛАД — это и душа человеческая, подчас скованная внутренним холодом. И надо бережно оттаять ее.Глубокая осень. ЖУРАВЛИ УЛЕТАЮТ НА ЮГ. На могучей сибирской реке Енисее бушуют свирепые штормы. До ледостава остаются считанные дни.