Иван Купало - [5]
Ни о Перуне, ни о Ладе, как читатель видит, здесь нет ни одного слова. Но так как предполагаемый Перун-Купало смешивается с Иваном Крестителем, а Богородица у сербов часто является в песнях под именем «огняной Марии», «молниеносной» и даже просто «молнии», то этого достаточно для главы русской стихийной школы, чтобы, подставив вместо Ивана и Марии Перуна и Ладу, получить вышеприведённую мифологическую формулу. М. Е. Соколов, с гораздо меньшими усилиями, склоняет читателя к мнению, что двойственность праздника обусловливается вовсе не вмешательством в него громового культа, но сочетание Купала-солнца с Купалою-богинею весны, тою самою Лялею или Ладою, которую Афанасьеву желательно выдать замуж непременно за Перуна. Так как брачное пиршество богов подаёт людям пример любиться и множиться, то купальские празднества отличались у древних славян ярким вакхическим колоритом, широким, безудержным разгулом. В Малороссии праздник Рождества Предтечи называется даже попросту Иваном Гулящим. Тайна любви богов дала новый оттенок мифу о жар-цвете.
Чарующею силою пурпурного цветка, сорванного в Иванову ночь, Оберон у Шекспира влюбляет Титанию в человека с ослиною головою; волшебный венок из купальских цветов, надетый матерью-Весною на голову Снегурочки, отдаёт «холодное мороза нарожденье» во власть страстно любящему её Мизгирю. Чары Купала — чары любви. «Гой еси ты государь сатана! — читаем мы в любовном заговоре 1769 года; — пошли ко мнѣ на помощь рабу своему часть бѣсовъ и дьяволовъ… Купалолака съ огнями горящими и съ пламенемъ палящимъ и съ ключами кипучими, и чтобъ они шли къ рабицѣ дѣвицѣ и зажигали-бъ они по моему молодецкому слову ея душу и тѣло и буйную голову и т. д.». Таинственный Купалолака является здесь в полной обстановке Купальской ночи, из мрака которой старинный бог вынырнул уже в звании чёрта: при палящих огнях, при кипучих ключах. Не особенно трудно предположить, что Купалолака есть просто испорченное писцом сочетание двух слов Купала Лада.
В такой форме подсказало А. Н. Островскому художественное чутьё — часто более проникновенное, чем самое старательное научное исследование — секрет Ярилина, а так как Купало и Ярило едва ли не одно и то же божество, под разными кличками, то читай и Купалина дня. Праздник брачущихся людей и богов: свадьба Плодотворителя-Солнца с Весною, то есть с расцветшею землёю, — Ладою, Лялею и под какими бы именами ещё она ни встречалась. Тогда и купанье их приобретает вполне ясный смысл, как и утреннее купанье лиц, отпраздновавших священную ночь на лесной гулянке. Это — та предсвадебная и послесвадебная баня, что до сих пор играет столь важную роль в простонародном русском свадебном обряде; у неё свой культ, свои песни, невесту ведут в неё торжественно, с причитаниями, — точь-в-точь, как сопровождают к реке чучело Купалы, Маревы, Русалки или Кукушки. Что обычай свадебной бани приписывается народом и стихийным духам, прежним божествам своим, видно из поверья о леших. На переходе от весны к лету, в пору быстро набегающих, шумных, красивых гроз, бурных вихрей и наводнений, лесные и водяные духи справляют свои свадьбы, сопровождаемые буйным весельем. Разгулом нечистой силы на брачных пиршествах крестьяне объясняют несчастья от весенних циклонов; водяные ломают мельницы, лешие размётывают овины, клади, валят деревья. Если мужика, при ясном небе, обольёт сильный дождь из налетевшей «шальной» тучки, — что называется, дождь сквозь солнце, грибной дождик, — он склонен думать, что шёл мимо бани, где новобрачный леший парился со своею молодою женою и, рассердясь на прохожего, окатил его водою из шайки, с головы до ног.
То же художественное чутьё помогло Островскому резко отграничить в двойственном празднике Купалы, небесный элемент от земного, мужской от женского, Солнце от Весны-Красны. Купалин день — последний день царства Весны и первый день лета. Весна отбыла свой срок и умирает, а солнце, из плодотворящего супруга её Купала, вступает в новый фазис своего бытия, становится палящим, могучим Ярилою. Древние славяне хоронили Масляницу, Зиму, хоронили русалок, осенью, в знак убыли солнечного тепла и конца лета, хоронили мух, букашек и тараканов, в гробах из репы, свёклы, моркови, — естественно было хоронить и умершую Ладу-Весну, эту своего рода Снегурочку, растаявшую в пламенных объятиях супруга-Солнца. С рассветом дня, женскую куклу Купалы, или зелёное деревцо, служившее её символом, бросают в воду, возвращая весну той стихии, из которой она и вышла два месяца назад, с первыми оттепелями, в апрельском таянии снегов. Утопленная весна не исчезает, она разливается в природе. Это пантеистическое воззрение сказывается во многих песнях, но нигде — с большею ясностью, чем в той же малороссийской Ганне, что, как видели мы раньше, смутило Вадима Пассека на эвгемерические догадки. Песня эта, исполняемая непосредственно после утопления весны, ярко изображает даже последовательность, в какой исчезнувшая богиня проникает поглотившую её природу.
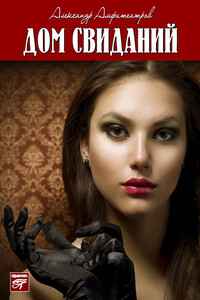
Однажды в полицейский участок является, точнее врывается, как буря, необыкновенно красивая девушка вполне приличного вида. Дворянка, выпускница одной из лучших петербургских гимназий, дочь надворного советника Марья Лусьева неожиданно заявляет, что она… тайная проститутка, и требует выдать ей желтый билет…..Самый нашумевший роман Александра Амфитеатрова, роман-исследование, рассказывающий «без лживства, лукавства и вежливства» о проституции в верхних эшелонах русской власти, власти давно погрязшей в безнравственности, лжи и подлости…
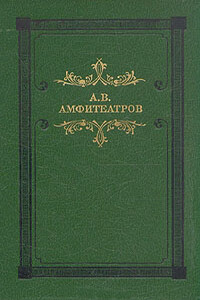
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Италия».
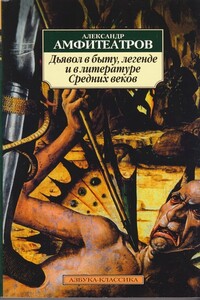
В Евангелие от Марка написано: «И спросил его (Иисус): как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, ибо нас много» (Марк 5: 9). Сатана, Вельзевул, Люцифер… — дьявол многолик, и борьба с ним ведется на протяжении всего существования рода человеческого. Очередную попытку проследить эволюцию образа черта в религиозном, мифологическом, философском, культурно-историческом пространстве предпринял в 1911 году известный русский прозаик, драматург, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик Александр Амфитеатров (1862–1938) в своем трактате «Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков».
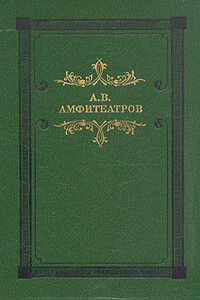
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.
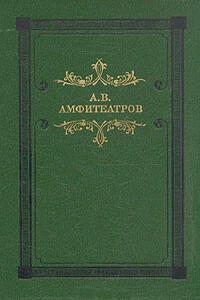
Сборник «Мертвые боги» составили рассказы и роман, написанные А. Амфитеатровым в России. Цикл рассказов «Бабы и дамы» — о судьбах женщин, порвавших со своим классом из-за любви, «Измена», «Мертвые боги», «Скиталец» и др. — это обработка тосканских, фламандских, украинских, грузинских легенд и поверий. Роман «Отравленная совесть» — о том, что праведного убийства быть не может, даже если внешне оно оправдано.Из раздела «Русь».
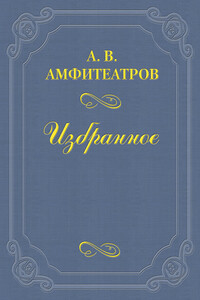
«Единственный знакомый мне здесь, в Италии, японец говорит и пишет по русски не хуже многих кровных русских. Человек высоко образованный, по профессии, как подобает японцу в Европе, инженер-наблюдатель, а по натуре, тоже как европеизированному японцу полагается, эстет. Большой любитель, даже знаток русской литературы и восторженный обожатель Пушкина. Превозносить «Солнце русской поэзии» едва ли не выше всех поэтических солнц, когда-либо где-либо светивших миру…».

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».
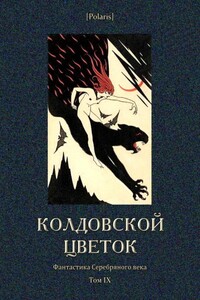
Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.
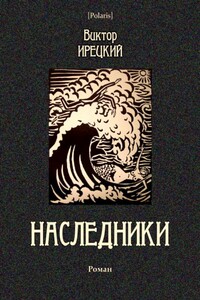
Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.
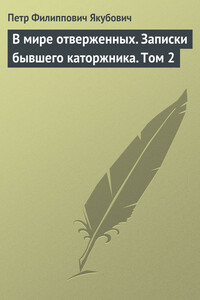
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.
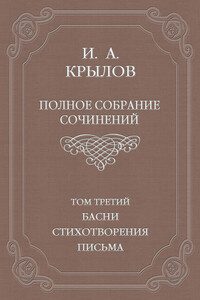
Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 г. При жизни И.А. Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII века. Многократно печатались лишь сборники его басен. Было предпринято несколько попыток издать Полное собрание сочинений, однако достигнуть этой полноты не удавалось в силу ряда причин.Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма.
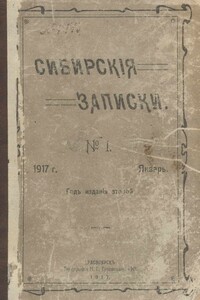
Рассказ о случайном столкновении зимой 1906 года в маленьком сибирском городке двух юношей-подпольщиков с офицером из свиты генерала – начальника карательной экспедиции.Журнал «Сибирские записки», I, 1917 г.
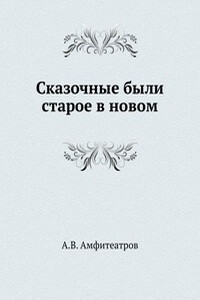
Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.
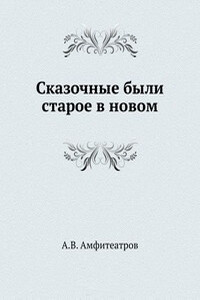
Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.