История западного мышления - [14]
Постоянные сомнения, которым софисты подвергали различные человеческие верования — будь то традиционная вера в богов или более поздняя, но, с их точки зрения, не менее наивная вера в способность человеческого разума действительно познать природу чего-то столь неизмеримого и неопределимого, как Космос, — побуждали философию искать иные, еще не известные направления. В результате человек обрел такой значительный статус, какого у него прежде не было. Он становился все более свободным, определял себя сам. Он прекрасно знал, что существует весьма обширный мир, где существуют другие культуры и верования, помимо его собственных. Он осознавал относительность и пластичность человеческих ценностей и обычаев, осознавал и свою роль в творении своей действительности. Однако в пределах космического порядка он терял прежнее значение, ибо порядок этот, если он вообще существовал, подчинялся собственной логике, нисколько не касаясь человека и ценностей греческой культуры.
Как видим, миропонимание софистов породило новые проблемы. Несмотря на положительное воздействие на часть общества их интеллектуальной подготовки и учреждения либерального образования как основы для эффективного формирования характера, их радикальный скептицизм по отношению ко всем ценностям приводил некоторых их последователей к явно выраженному пренебрежению нравственностью в пользу выгоды. Так, иные ученики софистов брались за сочинение мнимо правдоподобных аргументов, годившихся для поддержки практически любого судебного иска.
Тем временем серьезное беспокойство вызывало ослабление политического и этического положения в Афинах, дошедшего до критической точки: демократия расшаталась и развратилась, вследствие чего одержала верх беспощадная олигархия — афинское господство над Грецией превратилось в тиранию, а порождавшиеся высокомерием войны приводили к катастрофам. В повседневной жизни Афин почти не осталось гуманных этических критериев, которые не были бы основательно попраны; в гражданских отношениях (гражданами в Афинах являлись исключительно мужчины) стал явно проявляться застой; нередко встречалась жестокая эксплуатация женщин, рабов и чужеземцев. У всех этих тенденций имелись свои истоки и мотивы: едва ли. возможно возлагать всю вину на софистов. И все же, думается, отрицание софистами абсолютных ценностей и их призывы к выгодам и удобствам как цели жизни не только отражали, но усугубляли неспокойный дух времени.
Релятивистский гуманизм софистов, невзирая на все его прогрессивные и либеральные черты, в целом оказался не таким уж плодотворным. Мир, расширившейся благодаря прежним завоеваниям Афин, но уже потерявший равновесие, вновь стал смутным и хаотичным, тогда как теперь он, казалось, требовал еще большего порядка — универсального и одновременно концептуального, в рамках которого возможно было постижение событий. Учение софистов такого порядка не предлагало — оно обещало, пожалуй, лишь путь к успеху. При этом спорным оставалось и определение самого успеха. Смелое утверждение софистов о независимости человеческого интеллекта, якобы способного благодаря собственной мощи достигнуть мудрости, достаточной для того, чтобы хорошо прожить жизнь, их убежденность в том, что человеческий ум способен самостоятельно прийти к прочному равновесию, — сейчас, очевидно, требовали переоценки. Что же касается наиболее консервативных представлений, то основы традиционной системы верований и считавшиеся вечными ценности опасно пошатнулись, а власть разума и словесное мастерство приобрели далеко не безупречную репутацию. Теперь казалось, что развитие рассудка полностью подсекло собственное основание: человеческий разум сам отказывал себе в способности по-настоящему познать мир.
Именно в этой чрезвычайно напряженной культурной атмосфере начал свои философские поиски Сократ, настроенный скептически и индивидуалистично, как любой софист. Сократ был младшим современником Перикла, Еврипида, Геродота и Протагора. Пора его детства пришлась на то время, когда в Акрополе возводился Парфенон (он мог наблюдать строительство от начала до конца). Сократ появился на философской арене в тот момент, когда напряжение между древней олимпийской традицией и новым напористым интеллектуализмом достигло апогея. Своей необыкновенной жизнью и не менее необыкновенной смертью ему суждено было в корне перевернуть греческое мировоззрение, не только указать новый путь для поисков истины, но и личным примером явить образец терпения, стать идеалом и источником вдохновения для всей последующей философии.
Несмотря на громадное воздействие, оказанное Сократом, о его жизни известно мало. Сам Сократ ничего не писал. Его наиболее полный портрет содержат "Диалоги" Платона, однако остается неясным, до какой степени слова и идеи, приписываемые в них Сократу, отражают эволюцию философии самого Платона (к этой проблеме мы вернемся в конце главы). Дошедшие до нас свидетельства современников и последователей Сократа — Ксенофонта, Эсхила, Аристофана, Аристотеля, поздних платоников — конечно, полезны, но они в основном фрагментарны или получены из вторых рук, нередко путаны, а иногда и противоречивы. И все же вполне возможно "по кусочкам" собрать достаточно достоверную картину, прибегнув к ранним платоновским диалогам, а также к указанным источникам.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.
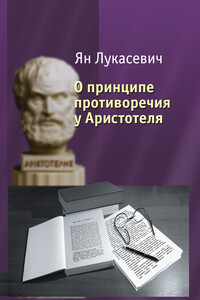
Книга выдающегося польского логика и философа Яна Лукасевича (1878-1956), опубликованная в 1910 г., уже к концу XX века привлекла к себе настолько большое внимание, что ее начали переводить на многие европейские языки. Теперь пришла очередь русского издания. В этой книге впервые в мире подвергнут обстоятельной критике принцип противоречия, защищаемый Аристотелем в «Метафизике». В данное издание включены четыре статьи Лукасевича и среди них новый перевод знаменитой статьи «О детерминизме». Книга также снабжена биографией Яна Лукасевича и вступительной статьей, показывающей мучительную внутреннюю борьбу Лукасевича в связи с предлагаемой им революцией в логике.
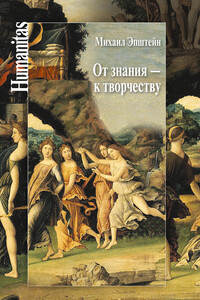
М.Н. Эпштейн – известный филолог и философ, профессор теории культуры (университет Эмори, США). Эта книга – итог его многолетней междисциплинарной работы, в том числе как руководителя Центра гуманитарных инноваций (Даремский университет, Великобритания). Задача книги – наметить выход из кризиса гуманитарных наук, преодолеть их изоляцию в современном обществе, интегрировать в духовное и научно-техническое развитие человечества. В книге рассматриваются пути гуманитарного изобретательства, научного воображения, творческих инноваций.
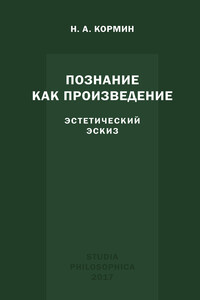
Книга – дополненное и переработанное издание «Эстетической эпистемологии», опубликованной в 2015 году издательством Palmarium Academic Publishing (Saarbrücken) и Издательским домом «Академия» (Москва). В работе анализируются подходы к построению эстетической теории познания, проблематика соотношения эстетического и познавательного отношения к миру, рассматривается нестираемая данность эстетического в жизни познания, раскрывается, как эстетическое свойство познающего разума проявляется в кибернетике сознания и искусственного интеллекта.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.
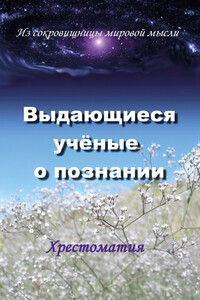
Книга будет интересна всем, кто неравнодушен к мнению больших учёных о ценности Знания, о путях его расширения и качествах, необходимых первопроходцам науки. Но в первую очередь она адресована старшей школе для обучения искусству мышления на конкретных примерах. Эти примеры представляют собой адаптированные фрагменты из трудов, писем, дневниковых записей, публицистических статей учёных-классиков и учёных нашего времени, подобранные тематически. Прилагаются Словарь и иллюстрированный Указатель имён, с краткими сведениями о характерном в деятельности и личности всех упоминаемых учёных.