История тела в средние века - [5]
«Нашему сознанию не всегда дается воспоминание об этой ступени собственной истории, — продолжал Элиас. — Мы уже утратили ту ничем не сдерживаемую откровенность, с какой Эразм и люди его времени могли обсуждать все сферы человеческого поведения. Во многом эта откровенность превышает порог нашей терпимости. Но именно это относится к обсуждаемым нами проблемам».
Внедрение принуждения и социальных норм происходило постепенно. Стыд, стеснительность, стыдливость имеют свою историю. «Процесс цивилизации», происходивший в западной культуре, стремился подавить, загнать внутрь, свести к личному те жесты, которые люди связывали с животной природой. Он проходил через тело, являвшееся одновременно и субъектом, и объектом процесса. Изобретение плевательницы, носового платка или, к примеру, вилки свидетельствует о том, что «техники тела» подвергались социальной кодификации. Постепенно их начинали контролировать, скрывать, их применение подчинялось правилам хорошего тона: «Спрятанные глубоко внутрь и воспринимаемые как естественные, подобные ощущения влекут за собой формализацию норм поведения. Они, в свою очередь, определяют консенсус в отношении того, какие жесты считать подобающими, а какие — нет. А затем жесты моделируют чувствительность».[8]
Норберт Элиас, сформулировавший фундаментальные идеи «социогенеза» и «психогонеза», писал, что история общества отражается во внутренней истории каждого индивидуума. В 1919 году появилась книга Йохана Хейзинги «Осень Средневековья», которая приблизила историю как дисциплину к пониманию проблемы тела. В этом сочинении, одновременно и научном, и поэтическом, есть посвященная «терпкому вкусу жизни» глава, в которой нидерландский историк предлагает читателю «вспомнить эту восприимчивость, эту естественную склонность к слезам, эти духовные переломы, если он хочет ощутить терпкость вкуса, резкость цвета, которыми отличалась жизнь в ту эпоху».[9]
Однако лишь Люсьен Февр (1878–1956) и, в еще большей степени, Марк Блок (1886–1944), основоположники школы «Анналов», уделили наконец подобающее внимание исторической интуиции и, следуя ей, построили программу исследований. В оставшейся незавершенной книге «Апология истории»,[10] которую в 1949 году опубликовал Люсьен Февр, Марк Блок выражал желание иметь дело с человеком во плоти, со всеми его внутренними органами. Историк, ставший в 1929 году одним из основателей журнала «Анналы»,[11] писал даже, что «настоящий историк похож на сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча». Ибо «за зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, история хочет увидеть человека».
Через все произведение красной нитью проходит одна мысль: человек обладает ощущениями, обладает телом. Так вот, если необходимо признать, что «в человеческой природе и в человеческих обществах существует некий постоянный фонд — без этого даже имена людей и названия обществ потеряли бы свой смысл», то не менее важно констатировать, продолжал он, что «человек также сильно изменился — и его дух, и, несомненно, даже самые тонкие механизмы его тела. […] Духовная атмосфера претерпела глубокие изменения, гигиенические условия и питание изменились не меньше».
Марк Блок проявил историческую чуткость к «техникам тела» уже в своей первой книге «Короли-чудотворцы» (1924), в которой рассмотрел феномен чудесного излечения королями Франции и Англии больных золотухой (туберкулезным аденитом) одним лишь прикосновением руки. Книга, в которой соединились история ментальностей и история тела, история ритуалов и жестов, стала фундаментом политической исторической антропологии. Марк Блок сохранил эту чуткость до времени написания «Апологии истории». Слова же об «истории, более достойной этого названия, чем робкие наброски, на которые нас ныне обрекает ограниченность наших возможностей» и которая «уделила бы должное место приключениям тела», взяты из работы «Феодальное общество».[12] Блок не смог полностью реализовать этот замысел: в 1944 году его расстреляли немцы. Историк оставил его нам в наследство, как и многие другие, тоже достойные осуществления.
По воле случая или вследствие закономерности особое внимание телу стали уделять многие интеллектуалы, которым пришлось, согласно любимому выражению Ханны Арендт, «погрузиться в темные времена». Философы и социологи Макс Хоркхаймер и Теодор Визенгрунд Адорно, оказавшись в изгнании в Америке, пытались понять, «почему человечество вместо того, чтобы достичь достойного человека существования» погружается «в новую форму варварства». В своих «заметках и эскизах» они также считали важным подчеркнуть, что в западной культуре «тело играло значительную роль».
Ученые, работавшие во франкфуртском Институте социальных исследований (1923–1950), писали в 1944 году в работе «Диалектика разума»:[13] «У Европы есть две истории: одна из них — писаная и хорошо известная, другая — подспудная. Она определяется действием человеческих инстинктов и страстей, подавляемых и извращаемых цивилизацией».
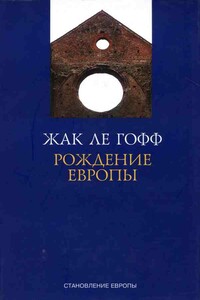
Известнейший французский медиевист рассматривает Средние века прежде всего с точки зрения складывания европейской идентичности. Именно в эту эпоху, которая заслуживает самого пристального к себе отношения, сформировались основные черты знакомой нам Европы. Само понятие «Европа» встречается уже в документах VII века, а первая попытка ее объединения восходит к следующему столетию. Далее, на протяжении всего Средневековья, складывались отличительные особенности Европы как особой социокультурной общности, объединенной христианскими ценностями, и возникали первые ростки общеевропейского самосознания.
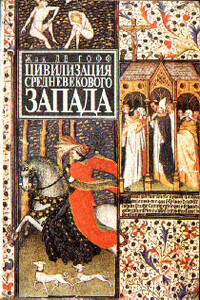
Это издание осуществлено при участии Министерства иностранных дел Франции и французского посольства в Москве Автор книги, один из ведущих представителей Школы «Анналов», предпринимает попытку сжато, но предельно ярко и убедительно охарактеризовать основные особенности средневековой цивилизации. В центре внимания автора — Пространство и Время в жизни и восприятии тогдашнего населения Европы, его материальная жизнь, характеристика их социальной системы и, главное, анализ их менталитета, коллективной психологии, способов чувствовать и мыслить.
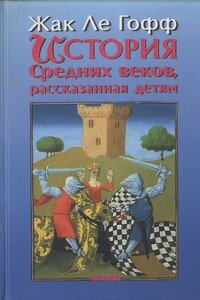
Кто расскажет о Средних веках лучше, чем Жак Ле Гофф? Знаменитый французский историк, один из главных специалистов по Средневековью (а возможно, крупнейший на сегодняшний день), написал великолепную книгу, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Она построена как диалог между автором-ученым и любознательным подростком. Средние века — одна из самых притягательных и ярких эпох в истории Европы. Ле Гофф показывает два разных ее облика: прекрасный, благородный, поэтический с одной стороны и неприглядный, в чем-то даже уродливый — с другой.
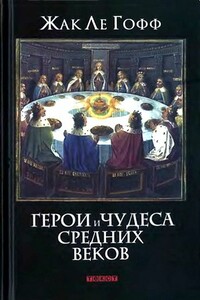
Новая книга непревзойденного знатока и исследователя культуры Западной Европы продолжает знакомить читателя с интереснейшими деталями средневековой европейской жизни. Жак Ле Гофф исследует само средневековое представление о жизни, ее героях – рыцарях без страха и упрека или благородных разбойниках; о местах, с которыми у нас связано представление о Средневековье, – укрепленном замке или кафедральном соборе; о фантастических существах, нашедших отражение в мрачноватом и влекущем мире старинных легенд.
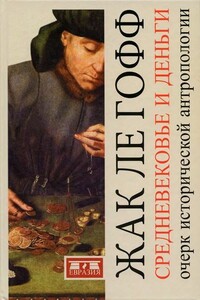
Мы представляем отечественному читателю историко-антропологическое исследование Жака Ле Гоффа, посвященное роли денег в средневековье. Автор фокусирует свое внимание на двух аспектах: Первый — это собственно деньги, почти исключительно представленные в ту эпоху в виде монеты (или вернее монет), равно как и все с ними связанное: чеканка, история монетных дворов и видов монет, денежное обращение, становление государственных налоговых систем, появление финансового учета. Второй — это отношение к деньгам: стремление к обладанию ими.
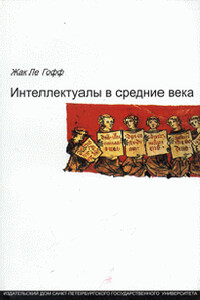
С очерка истории интеллектуалов, людей, посвятивших себя умственной деятельности, — ученых (монахов и клириков) и мирян (богословов и философов), Ле Гофф начинает свою экспансию в мир духовности и психологии человека Средних веков. Как и в последующих своих работах — «Другое Средневековье», «Людовик IX Святой», нашумевшей в 1960-е годы «Цивилизации средневекового Запада» и др., он остается верен культурно-антропологическому подходу «Новой исторической науки», у истоков которой стояли Марк Блок и Люсьен Февр.Книга адресована историкам, философам, культурологам, филологам, а также самому широкому читателю, интересующемуся прошлым европейской культуры.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Серия очерков полковника Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968) — о вражеских вождях и о вражеской армии. Одно ценно — автор видел врагов вблизи, а некоторые стороны их жизни наблюдал изнутри, потому что некоторое время служил в их армии: в мае 1918 года по заданию Московской подпольной белогвардейской организации поступил на службу в Красную армию, в управление Северо-Кавказского военного округа. Как начальник штаба округа он непосредственно участвовал в разработке и проведении операций против белых войск и впоследствии уверял, что сделал все возможное, чтобы по одиночке посылать разрозненные красноармейские части против превосходящих сил противника.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.