История Тайной канцелярии Петровского времени - [5]
Таким образом, вторая глава рассматривает следующие роды преступлений: 1) государственную измену (ст. 3–11); 2) покушение на жизнь и здравие государя (ст. 1); 3) покушение на власть «державы царского величества», каковое покушение понимается сообразно времени в прямом смысле, как желание «Московским государством завладеть и государем быть» (ст. 2); кроме того, сюда же вводится: 4) преступление «приходить, грабить и побивать» «самовольством скопом и заговором» «к Царскому Величеству и на Его Государевых бояр и окольничих, и на Думных и на ближних людей, и в городах, и в полках на воевод и на приказных людей (ст. 21)».
Статьями 19 и 21-й устанавливается обязанность каждого «извещать» власти об всяком «ведомом» злом умысле, заговоре и прочем: за неисполнение этого требования грозит смертная казнь «без всякой пощады». Этот «извет» должен быть произведен «государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Русии или его Государевым боярам и ближним людям, или в городах воеводам и приказным людям» (18-я ст.). Если того, на кого «извещают», налицо не оказывается, то его разыскивают, потом делают ответчику и доносителю очную ставку, и должны притом «сыскивати всякими сыски накрепко, и по сыску указ учинити» (ст. 16-я). Таким образом, всякое дело против преступлений такого рода должно начинаться по извету — доносу; других путей не оговорено. Этот «извет» является обязанностью каждого — за неисполнение этой обязанности грозила смертная казнь без пощады. В какие бы руки донос ни попал, закон обязывает отыскать немедленно ответчика, сделать очную ставку и произвести самое тщательное следствие; при этом, конечно, должны были применяться обычные приемы (пытки и проч.), так как не оговаривается характер «сыска», а только квалифицируется его степень: «накрепко». По окончании следствия, после получения известных результатов, сообразно им и нормам Уложения должно быть постановлено решение, «учинен указ».
Из всего этого ясно видно, что вторая глава Уложения является только фиксированием, довольно точным, в законодательном порядке того, что в практике, как мы видели, установилось довольно прочно гораздо ранее. Уложение ничего нового не внесло в формы производства дел по изветам о «слове и деле государевом» и только в самых общих чертах закрепило уже ранее существовавший в практике порядок.
Обратимся же теперь к вопросу, как фиксированные Уложением нормы действовали наделе и не внесла ли в них дальнейшая практика чего-либо нового.
В 1650 (7159) году от царя и великого князя псковскому воеводе Львову была послана грамота, в которой говорилось: «…писали к нам… ты воевода… да дьяк… что… Гришка Трясисоломин говорил про царицу нашу и великую княгиню Марию Ильиничну непристойные речи и с пыток в том винился»; «и вы б того вора Гришку Трясисоломина за его воровские непристойные речи велели казнить: вырезать ему язык; и сослали его в Великий Новгород, с женою и с детьми»; и как это будет исполнено, «вы б о том к нам отписали, а отписку велели отдати в Посольском приказе дьякам нашим думным Михаилу Волошенинову, да Алмазу Иванову, да Андрею Немирову»
Из этой грамоты, во-первых, ясно, что на местах ведали дела по «слову и делу», пытали и допрашивали, словом, вели все следствие обычные воеводы, но о результатах сообщали в Москву, и окончательное решение, приговор, — шел уже из Москвы от царя; причем, видимо, данное дело велось в Москве через Посольский приказ.
В 1650 (7159) году костромского воеводу в приказной избе «извещал» костромитин Мишка Огарев на костромитина Калинина, что он неприлично бранил государя. Воевода «ставит перед собой» обвиняемого, ведет допрос, вызывает свидетелей; все расспросные речи, записанные, были по окончании следствия воеводою отосланы в Разряд.
В 1655 (7164) году в Разряде, в Новгородском столе получили от воеводы отписку, что в съезжей избе его словесно извещал казак на одного крестьянина, который будто кричал у кабака: «Ты-де государев слуга, а я де государев друг». Воевода допросил обвиняемого (который передавал иначе свои слова) и просит указа, что ему далее делать.
В Новгороде в 1662 году некто Рогозинский, по донесению воеводы Репнина, сказал «наши царственные дела», как выражается царская грамота Репнину о присылке этого Рогозинского для следствия в Приказ наших тайных дел.
В мае 1668 году в Пскове к воеводе были присланы монастырский старец Пахомий и псковский пушкарь Ульяшко Гаврилов с обвинением их в том, что они говорили «непристойные» речи: «великого государя… и святейшего патриарха Иосафа называли ворами» и будто «веруют они во антихриста». Воевода обычным порядком повел следствие, и его результаты (в виде расспросных речей обвиняемых и свидетелей и очных ставок) отправил в Москву. Царь, выслушав эту отписку, приказал прислать обвиняемых в Москву, в Посольский приказ; «если же в этом будут упорствовать, то велеть того чернца и пушкаря сжечь». Старец Пахомий отказался приносить покаяние, и его сожгли; причем переписка об этом вся шла через Посольский приказ. Пушкарь же Гаврилов покаялся, причастился Святых Тайн и был отправлен в Спасский монастырь; переписка об этом тоже велась Посольским приказом. Через некоторое время этот пушкарь ушел из монастыря, очутился в Новгороде; его поймали и доставили в Москву в Посольский приказ. На этом материалы дела кончаются.

Небольшая книга об освобождении Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков. О наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о прорыве Миус-фронта.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.

У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.
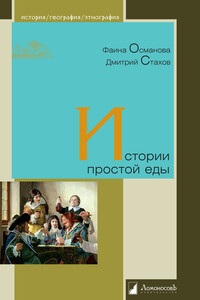
Нет, это вовсе не кулинарная книга, как многие могут подумать. Зато из нее можно узнать, например, о том, как Европа чтит память человека, придумавшего самую популярную на Руси закуску, или о том, как король Наварры Карл Злой умер в прямом смысле от водки, однако же так и не узнав ее вкуса. А еще – в чем отличие студня от холодца, а холодца от заливного, и с чего это вдруг индейка родом из Америки стала по всему миру зваться «турецкой птицей», и где родина яблок, и почему осетровых на Руси называли «красной рыбой», и что означает быть с кем-то «в одной каше», и кто в Древнем Египте ел хлеб с миндалем, и почему монахамфранцисканцам запрещали употреблять шоколад, и что говорят законы царя Хаммурапи о ценах на пиво, и почему парное мясо – не самое лучшее, и как сварить яйцо с помощью пращи… Журналист Фаина Османова и писатель Дмитрий Стахов написали отличную книгу, нашпигованную множеством фактов, – книгу, в которой и любители вкусно поесть, и сторонники любых диет найдут для себя немало интересного.

Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, , как формировались древнейшие культы, традиции верования и обряды Китая, как возникли в Китае конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех трех учений, и как все это создало традиции, во многом определившие китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и трудолюбие.
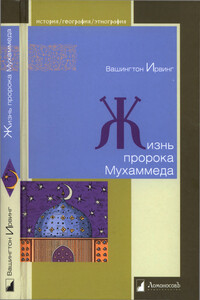
Есть две причины, по которым эту книгу надо прочитать обязательно.Во-первых, она посвящена основателю ислама пророку Мухаммеду, который мирной проповедью объединил вокруг себя массы людей и затем, уже в качестве политического деятеля и полководца, создал мощнейшее государство, положившее начало Арабскому халифату. Во-вторых, она написана выдающимся писателем Вашингтоном Ирвингом, которого принято называть отцом американской литературы. В России Ирвинга знают как автора знаменитой «Легенды о Сонной Лощине», но его исторические труды до сих пор практически неизвестны отечественному читателю.
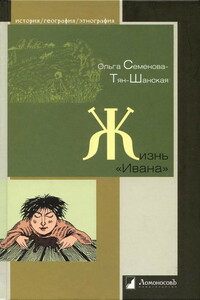
Быт дореволюционной русской деревни в наше время зачастую излишне омрачается или напротив, поэтизируется. Тем большее значение приобретает беспристрастный взгляд очевидца. Ольга Семенова-Тян-Шанская (1863 1906) — дочь знаменитого географа и путешественника и сама этнограф — на протяжении многих лет, взяв за объект исследования село в Рязанской губернии, добросовестно записывала все, что имело отношение к быту тамошних крестьян. В результате получилась удивительная книга, насыщенная фактами из жизни наших предков, книга о самобытной культуре, исчезнувшей во времени.