История Османской империи. Видение Османа - [5]
Никто не мог предвидеть победного шествия османов в течение последующих веков. Около 1300 года они были всего лишь одним из многих туркменских, или тюркских, племен центрально-азиатского происхождения, соперничавших за контроль в Малой Азии — землями между Черным, Средиземным и Эгейским морями. Территория входила в Восточную Римскую империю, которая эволюционировала в Византийскую империю после раскола между Востоком и Западом. Придя к власти в 324 году н. э., Константин Великий основал новую столицу империи — Константинополь на Босфоре, и город стал столицей восточной империи. В период расцвета Византия включала Балканы и обширные земли на востоке, от Малой Азии до современной Сирии и далее, но так и не оправилась ни от разграбления Константинополя в 1204 году рыцарями IV крестового похода, ни от последующей латинской оккупации с 1204 по 1261 год. К началу XIV века империи принадлежали Константинополь, Фракия, Македония, большая часть современной Греции, а также нескольких крепостей и морских портов в Малой Азии.
Туркменские племена веками совершали смелые набеги на восточные границы Византийской империи, задолго до того, как османы заняли свое место в истории. Наиболее успешными из первой волны были турки-сельджуки, постепенно продвигавшиеся из Центральной Азии на запад с продолжительной миграцией кочевников-скотоводов на Ближний Восток и в Малую Азию в то время, когда Византия была ослаблена внутренними распрями в далеком Константинополе. Турки-сельджуки не встретили серьезного сопротивления и в 1071 году под предводительством султана Али-Арслана разбили византийскую армию под командованием императора Романа IV Диогена в битве при Малазгирте (Манцикерте), к северу от озера Ван в восточной Малой Азии, открыв дорогу туркменским переселенцам для практически беспрепятственного продвижения на запад.
Ислам пришел в преимущественно христианскую Малую Азию с турками-сельджуками — представители туркменской группы принимали ислам с IX века, служа в качестве наемников мусульманским династиям центральных районов арабского мира; правда, массовое обращение турок в Центральной Азии произошло лишь столетие назад. При потомках Али-Арслана сельджуки прочно обосновались в Малой Азии, устроив ставку неподалеку от Константинополя, в Изнике (Никея), до тех пор, пока завоевание города воинами I крестового похода в 1097 году не вынудило их отойти в Конью (Икониум), в центральной Малой Азии. Примерно в то же время эмират Данишмендидов, изначально более могущественный, чем сельджуки, контролировал широкую полосу территории в северной и центральной Малой Азии; Салтукиды правили своими землями из Эрзурума, а Менгучеки из Эрзинджана; в то время как на юго-востоке обосновались Артукиды Диярбакыра (Амида). Малая Азия, куда переселились туркменские племена, была этнически и культурно смешанной, с давно укоренившимся там курдским, арабским, греческим, армянским и еврейским населением помимо туркменов-мусульман. К западу лежала Византия, а в Киликии и северной Сирии были расположены государства армян и крестоносцев, на юге граничившие с Мамлюкским султанатом со столицей в Каире. В течение следующего века сельджуки заняли территории своих более слабых соседей, а в 1176 году их султан Килиджарслан II наголову разбил армию византийского императора Мануила I Комнина в местечке под названием Мириокефалон к северу от озера Эгридир в юго-западной Малой Азии. Не будучи более ограничены удаленными от моря районами анатолийского плато, туркмены начали продвигаться к побережьям, стремясь к торговым путям окрестных морей.
Начало XIII в. было порой расцвета сельджуков Рума, как они сами себя называли (географический маркер «Рум» обозначал земли «Восточного Рима», Византийской империи), в отличие от Великой империи сельджуков в Иране и Ираке. Стабильные отношения между византийцами и сельджуками Рума позволили последним сосредоточиться на охране своих восточных границ, но равновесие было нарушено, когда с востока обрушилась новая волна завоевателей. Монголы под предводительством потомков грозного Чингиз-хана грабили земли государств-преемников Великой империи сельджуков, лежавшие на их пути. Так же как победа сельджуков при Малазгирте в 1071 году приблизила крушение византийского владычества в Малой Азии, так и победа монголов над армией сельджуков при Кёседаге близ Сиваса на севере центральной Малой Азии в 1243 году предрекала конец независимости сельджуков Рума. Их некогда могущественный султан в Конье превратился в выплачивающего дань вассала монгольского хана, чья ставка находилась в далеком Каракоруме в Центральной Азии. Последующие годы были беспокойными, так как сыновья последнего независимого султана Кай-Хусрава II оспаривали свое наследство при поддержке различных туркменских и монгольских группировок. И хотя в течение последней четверти XIII века монгольская династия Ильханидов ввела прямое правление, контроль Ильханидов в Малой Азии никогда не был строгим, так как их, как и сельджуков, раздирала междоусобная борьба. Туркмены Малой Азии оказывали сопротивление Ильханидам, а мамлюки Египта и Сирии совершали набеги на владения Ильханидов на юге. Но сами Ильханиды были в большей степени заинтересованы в сохранении доходов от будущих таможенных пошлин в прибыльной торговле между Индией и Европой, которая проходила через северо-восточную Малую Азию, и они оставили свой «дальний запад» туркменским пограничным князьям на северо-западных окраинах бывших сельджукских владений.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

Новая искренность стала глобальным культурным феноменом вскоре после краха коммунистической системы. Ее влияние ощущается в литературе и журналистике, искусстве и дизайне, моде и кино, рекламе и архитектуре. В своей книге историк культуры Эллен Руттен прослеживает, как зарождается и проникает в общественную жизнь новая риторика прямого социального высказывания с характерным для нее сложным сочетанием предельной честности и иронической словесной игры. Анализируя этот мощный тренд, берущий истоки в позднесоветской России, автор поднимает важную тему трансформации идентичности в посткоммунистическом, постмодернистском и постдигитальном мире.

В книге рассматривается столетний период сибирской истории (1580–1680-е годы), когда хан Кучум, а затем его дети и внуки вели борьбу за возвращение власти над Сибирским ханством. Впервые подробно исследуются условия жизни хана и царевичей в степном изгнании, их коалиции с соседними правителями, прежде всего калмыцкими. Большое внимание уделено отношениям Кучума и Кучумовичей с их бывшими подданными — сибирскими татарами и башкирами. Описываются многолетние усилия московской дипломатии по переманиванию сибирских династов под власть русского «белого царя».

Предлагаемая читателю книга посвящена истории взаимоотношений Православной Церкви Чешских земель и Словакии с Русской Православной Церковью. При этом главное внимание уделено сложному и во многом ключевому периоду — первой половине XX века, который характеризуется двумя Мировыми войнами и установлением социалистического режима в Чехословакии. Именно в этот период зарождавшаяся Чехословацкая Православная Церковь имела наиболее тесные связи с Русским Православием, сначала с Российской Церковью, затем с русской церковной эмиграцией, и далее с Московским Патриархатом.

Н.Ф. Дубровин – историк, академик, генерал. Он занимает особое место среди военных историков второй половины XIX века. По существу, он не примкнул ни к одному из течений, определившихся в военно-исторической науке того времени. Круг интересов ученого был весьма обширен. Данный исторический труд автора рассказывает о событиях, произошедших в России в 1773–1774 годах и известных нам под названием «Пугачевщина». Дубровин изучил колоссальное количество материалов, хранящихся в архивах Петербурга и Москвы и документы из частных архивов.

В монографии рассматриваются произведения французских хронистов XIV в., в творчестве которых отразились взгляды различных социальных группировок. Автор исследует три основных направления во французской историографии XIV в., определяемых интересами дворянства, городского патрициата и крестьянско-плебейских масс. Исследование основано на хрониках, а также на обширном документальном материале, произведениях поэзии и т. д. В книгу включены многочисленные отрывки из наиболее крупных французских хроник.
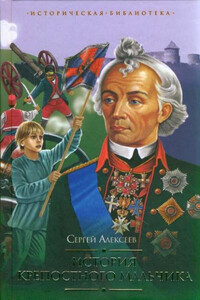
Безжалостная опричнина Иоанна Грозного, славная эпоха Петра Великого, восстание декабристов и лихой, жестокий бунт Стеньки Разина. История Руси и России — бурная, полная необыкновенных событий, трагедий и героических подвигов.Под пером классика отечественного исторического романа С. Алексеева реалии далекого прошлого, увиденные глазами обычных людей, оживают и становятся близкими, интересными и увлекательными.
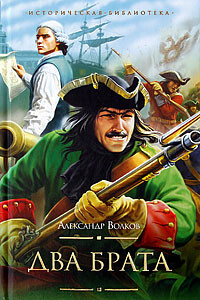
Славная эпоха конца XVII – начала XVIII веков, «когда Россия молодая мужала гением Петра». Герои увлекательного исторического романа известного отечественного писателя А.Волкова – два брата, два выходца из стрелецкой семьи – Илья и Егор Марковы. Им, разлученным в детстве, предстоит пройти по жизни совершенно разными путями. Младший, пройдя через множество трудностей и пережив немало увлекательных приключений, станет одним из обласканных славой «птенцов гнезда Петрова». Старший же изберет другую дорогу – жребий бунтаря и борца за справедливость, вечно живущего, как на лезвии ножа…
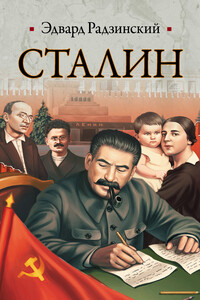
«Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой» (ОТК. 18: 10). Эти слова Святой Книги должен был хорошо знать ученик Духовной семинарии маленький Сосо Джугашвили, вошедший в мировую историю под именем Сталина.
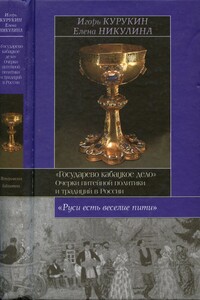
Книга посвящена появлению и распространению спиртных напитков в России с древности и до наших дней. Рассматриваются формирование отечественных питейных традиций, потребление спиртного в различных слоях общества, попытки антиалкогольных кампаний XVII–XX вв.Книга носит научно-популярный характер и рассчитана не только на специалистов, но и на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей.