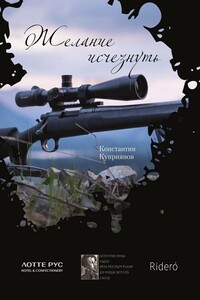История одного мальчика - [65]
На листе той же злополучной пергаментной бумаги, на которой я писал Элен, я накропал мистеру Пуше стихотворное любовное послание. Подписи своей я не поставил и предусмотрительно изменил почерк, старательно скопировав длинные и тонкие завитушки рукописного курсива из тетради с прописями. Его согласие ходить со мною каждое воскресенье в церковь и нежелание говорить о своей личной жизни (если таковая была) давали мне право предположить, что он готов полюбить меня — его уступчивость и скрытность были тем мягким воском, на котором я оставлял глубокую инталию своих воздушных замков. В тот день, когда, как я узнал, он был на тренировке легкоатлетической команды, я подбежал к его двери и подсунул под нее свое стихотворение.
Итак, свершилось.
Может, прочтя, он разыщет меня после ужина и пригласит проехаться с ним в город, где мы будем сидеть в грязной забегаловке и подкармливать пятицентовиками стоящий возле столика миниатюрный музыкальный автомат? Может, он нахмурится и, сделав вид, что изучает названия песен на передвижных табличках, вертящихся под засаленным стеклом, невнятно пробормочет мне признание в любви — как будто рассердившись на меня или чувствуя неловкость?
А может, он действительно рассердится? Может, он схватит меня за руку, когда я выйду из столовой, по-садистски вонзит мне в бицепс свои ногти и потащит по вымощенным кирпичом аллеям, сверкающим льдом и посыпанным скрипящим под ногами песком, в пустующий спортзал, где одну за другой отопрет все двери, вытолкнет меня на покрытую лаком, оглашаемую гулким эхом, залитую светом неожиданно включенного прожектора баскетбольную площадку и во искупление велит мне сделать сотни отжиманий и приседаний — многочасовые упражнения в качестве лечения и наказания?
Однако за едой он так ни разу и не поднял своих обрамленных длинными ресницами глаз, разве что с целью подпустить шпильку одному на своих малышей и раздать пудинг. Я не отводил от него взгляда, сидя за своим столом. Он был непроницаем. Сумел ли он, коли на то пошло, разобрать мои затейливые письмена? Неужто он настолько бестолков, что, несмотря на смехотворность моих мер предосторожности, так и не признал во мне автора сего прекрасного любовного стихотворения? А вдруг он… ах, вопросов много, опасение одно: он меня возненавидит.
Я так ничего и не узнал. О стихотворении он не упомянул ни разу. Он не пригласил меня съездить с ним в следующее воскресенье в церковь, да я и не настаивал. Мы оба присутствовали на службе, которую вел наш скудоумный капеллан. „Возлюбленные братья, — сказал капеллан, шаловливо вскинув брови, — помолимся же“, — после чего, не питая интереса к серьезным вещам, он сделался невыносимо скучен. Он склонил голову и заговорил столь монотонно и уныло, что голос его так и не достиг ничьих ушей. Сильный людской запах влажной шерсти и духов действовал на нас угнетающе. Отовсюду по капле сочились заунывные звуки умолкнувшего органа. Солнце появлялось и снова исчезало за круглым окном-розеткой с грубыми узорами, выполненными свинцовыми красками по трафарету и подмалеванными анилиновыми красителями ядовитых цветов — за окном сродни заводскому. Впоследствии, когда мы с мистером Пуше встречались в коридоре, он приветствовал меня с улыбкой, стараясь, по возможности, скрывать свою неприязнь — весьма бледный водяной знак, разобрать который можно было, лишь поднеся его к свету.
Я решил, что мне необходимо обратиться к психиатру. В глубине души я все еще надеялся, что с возрастом сумею избавиться от этого влечения к мужчинам, влечения, коему я, тем не менее, продолжал потворствовать. Однако меня уже начинал одолевать страх. В компании ровесников я делался изгоем. Я видел сон, в котором я был официантом в роскошном ресторане, где обслуживал счастливые, элегантные парочки.
Это наверху. Внизу, на грязной кухне, работали седые, плешивые мужчины, настоящие каторжники, немые, одичавшие от горя. Они носили забрызганные кровью передники и поблескивали от пота. Я был одним из них и, хотя и мог подниматься и вращаться в обществе веселых посетителей, неизбежно должен был опять спускаться вниз, к охваченным отчаяньем работникам, с недоверием относившимся друг к другу. А потом подъехал полицейский фургон, и работников, всех нас, выволокли на ночную улицу, сверкавшую красными вертящимися мигалками. Нас везли в тюрьму, откуда нам уже никогда не суждено было выйти. Когда меня заталкивали в фургон, я спиной ощущал взгляды гостей, глазевших из окон второго этажа. Они уже знали, что я не один из них, а один из заключенных.
Проснулся я в слезах, таких соленых, что от них жгло в уголках глаз. За что бы я ни брался, что бы ни делал, все было проникнуто печалью. Каждый предмет одежды — рубашка, галстук, куртка — казался скроенным из особого рулона грусти, каждый был грустью особой выработки, формы и покроя, как будто в моду входили разнообразные фасоны грусти. Над собственным отражением на натертом до блеска полу стояли мои ботинки, и мне они казались плохими копиями подлинной, идеальной грусти; конечно, это были большие, прочные предметы, даже грубые, и все же обтрепанный кончик шнурка, отогнувшиеся кое-где ободки отверстий, неравномерно стертые каблуки — все это чутко регистрировало повседневность, а что может быть печальней?
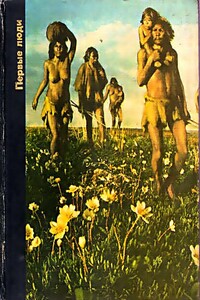
Третья книга серии "Возникновение человека" рассказывает о первых истинных людях. Авторы подробно рассматривают археологические находки, а также различные косвенные свидетельства, позволяющие судить о том, что происходило на Земле свыше полумиллиона лет назад. Особый интерес представляют страницы, посвященные раскопкам стоянок первобытных людей на территории современных Франции и Испании. Как и все другие книги серии, книга "Первые люди" превосходно иллюстрирована, написана увлекательно и просто.

С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все в школе их маленького городка считают, что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело подчиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у многих девчонок в школе.

Эта книга о жизни, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день. Лаконичные рассказы о радостях и печалях, встречах и расставаниях, любви и ненависти, дружбе и предательстве, вере и неверии, безрассудстве и расчетливости, жизни и смерти. Каждый рассказ заставит читателя задуматься и сделать вывод. Рассказы не имеют ограничения по возрасту.

«Шиза. История одной клички» — дебют в качестве прозаика поэта Юлии Нифонтовой. Героиня повести — студентка художественного училища Янка обнаруживает в себе грозный мистический дар. Это знание, отягощённое неразделённой любовью, выбрасывает её за грань реальности. Янка переживает разнообразные жизненные перипетии и оказывается перед проблемой нравственного выбора.

Удивительная завораживающая и драматическая история одной семьи: бабушки, матери, отца, взрослой дочери, старшего сына и маленького мальчика. Все эти люди живут в подвале, лица взрослых изуродованы огнем при пожаре. А дочь и вовсе носит маску, чтобы скрыть черты, способные вызывать ужас даже у родных. Запертая в подвале семья вроде бы по-своему счастлива, но жизнь их отравляет тайна, которую взрослые хранят уже много лет. Постепенно у мальчика пробуждается желание выбраться из подвала, увидеть жизнь снаружи, тот огромный мир, где живут светлячки, о которых он знает из книг.

Рассказ. Случай из моей жизни. Всё происходило в городе Казани, тогда ТАССР, в середине 80-х. Сейчас Республика Татарстан. Некоторые имена и клички изменены. Место действия и год, тоже. Остальное написанное, к моему глубокому сожалению, истинная правда.