История моего заключения - [3]
— Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? спрашивал следователь. — Их уничтожают!
— Это не имеет ко мне отношения, — отвечал я.
Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.
Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылался на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции.
— Действие конституции кончается у нашего порога, — издевательски отвечал следователь.
Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда прерывался и мы сидели молча. Следователь что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня.
По ходу допроса выяснялось, что НКВД пытается сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н. С. Тихонова.[1] В качестве членов должны были фигурировать писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные: Бенедикт Лившиц,[2] Елена Тагер,[3] Георгий Куклин,[4] кажется, Борис Корнилов,[5] кто-то еще и, наконец, я. Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н. М. Олейникове, Т. И. Табидзе, Д. И. Хармсе и А. И. Введенском, — поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами. В особую вину мне ставилась моя поэма «Торжество Земледелия», которая была напечатана Тихоновым в журнале «Звезда» в 1933 году. Зачитывались «изобличающие» меня «показания» Лившица и Тагер, однако прочитать их собственными глазами мне не давали. Я требовал очной ставки с Лившицем и Тагер, но ее не получил.
На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой ее странице я видел все новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъяснял следователям содержание этих картин. Мне сейчас трудно определить мое тогдашнее состояние, но помнится, я чувствовал внутреннее облегчение и торжество свое перед этими людьми, которым не удается сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, еще теплилось во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор.
Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец, меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью. Они втащили меня в камеру с железной решетчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям, или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру, и, пользуясь ею, как пикой, оборонялся насколько мог, и скоро отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струёй в угол и, после долгих усилий, вломились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности — настолько велики были следы истязаний.
Я очнулся от невыносимой боли в правой руке. С завернутыми назад руками я лежал, прикрученный к железным перекладинам койки. Одна из перекладин врезалась в руку и нестерпимо мучила меня. Мне чудилось, что вода заливает камеру, что уровень ее поднимается все выше и выше, что через мгновение меня зальет с головой. Я кричал в отчаянье и требовал, чтобы какой-то губернатор приказал освободить меня. Это продолжалось бесконечно долго. Дальше все путается в моем сознании. Вспоминаю, что я пришел в себя на деревянных нарах. Все вокруг было мокро, одежда промокла насквозь, рядом валялся пиджак, тоже мокрый и тяжелый, как камень. Затем как сквозь сон помню, что какие-то люди волокли меня под руки по двору… Когда сознание снова вернулось ко мне, я был уже в больнице для умалишенных.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Два никогда не публиковавшихся стихотворения Заболоцкого, хранившихся в семейном архиве, — “Москва” и незавершенное “И куколку я видел, и она…”; а также — текст перевода мессы Моцарта “Реквием” и первоначальная редакция стихотворения “Верблюд”.

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903–1958), выдающийся и интереснейший поэт России XX века, прошел в литературе сложный путь – от ритмического новаторства и принципиально условной эстетики до прозрачной ясности классического стиха: «Любите живопись, поэты...»Этот сборник, составленный сыном поэта Никитой Заболоцким, включает полный свод стихотворений и поэм, вошедших в литературное завещание автора, а также стихотворения из ранних собраний.
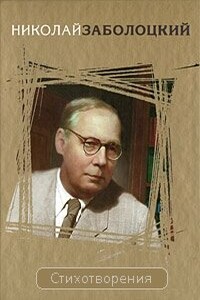
В данный сборник Николая Заболоцкого вошли более 130 стихотворений за весь период (1926-1958) творчества поэта.

В книгу вошли произведения одного из крупнейших русских поэтов Н. А. Заболоцкого (1903–1958). Если попытаться обозначить главную тему, «нерв» его творческих поисков, то это будет трагедия разума, размышления о месте человека в мироздании. Поэт писал по-разному, но об одном — о величии и одновременно о ничтожности человека в круговороте вселенской жизни. Его художественный мир — «мир живой, на тысячи ладов поющий, думающий, ясный».http://ruslit.traumlibrary.net.

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.
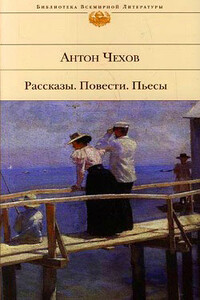
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
