История, которой даже имени нет - [11]
Ластени де Фержоль в самом деле была невиннейшим юным созданием, совсем еще ребенком. Ластени! — это имя часто упоминалось в романсах того времени, да и нынешние имена нередко напоминают о романсах, петых нашими матерями. За всю свою жизнь она ни разу не покидала родного городка и росла в нем, словно фиалка у подножия гор с серовато-зелеными склонами, гор, опутанных сетью жалобно звенящих ручьев. Она расцвела во влажном сумраке, будто ландыш, который не любит солнца и растет обычно в тени у садовой ограды, в уголке, куда не проникают палящие лучи. Она походила на этот целомудренный сумеречный цветок белизной и таинственным очарованием, являя собой полную противоположность облику и характеру матери. Всякий, глядя на них, недоумевал, как могла волевая суровая женщина произвести на свет такую робкую хрупкую дочь. Дочь казалась молодым побегом, мечтающим опереться о ствол могучего дерева. Многие девушки никнут к земле, как брошенные цветочные гирлянды или нежные лианы, а потом оживают, тянутся и льнут к своим возлюбленным, обвивая их, как драгоценные перевязи или орденские ленты. О Ластени де Фержоль говорили: «Миловидна, хоть не красавица», — но что они смыслили в красоте!.. Фигура у нее была идеальная, изящная и в то же время округлая, волосы светлые, как у отца, красавца барона, который по женственной моде своего времени посыпал букли розовой пудрой, — в начале XIX века только аббат Делиль[16] сохранил эту причуду и пудрился, несмотря на свое ужасающее уродство. Кудри Ластени не припудрили, а будто присыпали пеплом: их неброский оттенок напоминал крыло горлицы. Матовая белизна фарфорового личика и пепельные локоны подчеркивали странный блеск огромных глаз, зеленоватых, таинственных и чистых, как глубина зеркала. Глаза Ластени, серебристо-зеленые, словно листья ивы, подруги вод, осеняли ресницы густого золотого цвета, они ложились на бледные щеки, когда она неспешно опускала веки, — и столь же неспешной была ее поступь. Она томно глядела, томно двигалась. За всю жизнь я встретил подобную утомленную грацию лишь дважды и никогда ее не забуду. Такой же грацией обладала одна божественно прекрасная хромоножка. Ластени не хромала, но из-за неровности походки казалось, слегка прихрамывает, и как волшебно колыхались при ходьбе складки ее платья! А главное, она была тем трогательным беспомощным существом, перед которым из века в век склоняются все благородные и сильные люди, все истинные мужчины.
Ластени любила мать и трепетала перед ней. С таким благоговейным трепетом верующие подчас любят Бога. У мадам де Фержоль с дочерью не было, да и не могло быть, простых доверительных отношений, какие бывают у ласковых, сердечных матерей с их детьми. Ластени ощущала скованность в присутствии величественной сумрачной дамы, всегда молчаливой, словно бы и ее замкнули в холодном склепе мужа. Множество видений теснилось в мозгу мечтательницы Ластени; привыкнув к покорности, она сгибалась под грузом мыслей, не умела их выразить и не старалась их скрыть. Скудный свет с трудом пробивался к ней на дно каменной чаши, но еще трудней было пробиться сквозь заслон мечтаний, сковавших ее сердце. Вниз к городку вела по спирали крутая тропа, но, увы, ни одна тропа не вела к сердцу Ластени…
Девушка была скрытной и в то же время чистосердечной. Чистосердечие таилось в глубине ее души, как пузырьки воздуха в глубине прозрачного родника, следовало проникнуть в ее душу, чтобы извлечь его на поверхность, — пузырьки воздуха тоже не всплывают сами, они бурлят на водной глади, когда опустишь в воду руку или кувшин. Но никого не занимало, что творится в душе Ластени. Мадам де Фержоль обожала дочь прежде всего за сходство с дорогим усопшим и любовалась ею издали, утешаясь в молчании. Будь баронесса менее набожной и суровой, не кори она себя за «мирскую грешную страсть», она бы осыпала дочь поцелуями и в материнских горячих объятиях отогрелось бы сердце девочки, от природы боязливое, плотно сомкнутое, словно бутон; вот только этому бутону не суждено было раскрыться. Мадам де Фержоль довольствовалась сознанием, что любит дочь, и считала, что во имя Господа обязана сдержать поток переполнявшей ее нежности. Вряд ли она сознавала, что, заставив молчать свое сердце, замкнула и сердце дочери. Материнская любовь натолкнулась на стену непреклонной воли, не нашла исхода и постепенно отхлынула… Увы! Закон, положенный нашим чувствам, безжалостнее законов природы. Если преградишь путь потоку воды, он бурно потечет вновь, едва только снимешь преграду, но подавляемые чувства в какой-то миг исчезают, и, когда мы готовы их обнаружить, оказывается, что они иссякли. Точно так же кровь не течет из смертельной раны, излившись внутрь. Но если кровь можно высосать, припав к ране губами, то, приникнув к сердечной ране, не оживить чувство, долго бывшее под спудом.
И хотя мать и дочь были по-своему привязаны друг к другу, хотя они никогда не разлучались и делили все повседневные заботы, каждая замкнулась в себе, так и жили они в полном одиночестве одна подле другой. Сильная духом баронесса страдала от одиночества меньше, чем дочь: перед внутренним взором мадам де Фержоль постоянно вставал милый образ, вызванный из небытия воспоминаниями, пусть даже страстная любовь казалась ей теперь греховной. Тогда как Ластени, по своему складу чувствительная и хрупкая, страдала в полной мере; к ней не приходили воспоминания, ее скрытые душевные силы еще не расцвели, даже не проснулись. Правда, одиночество вызывало в ее душе не острую, а ноющую и смутную боль; впрочем, все ее чувства были такими же смутными и неотчетливыми… Эта ноющая боль донимала ее с детства, но беда в том, что люди ко всему привыкают. Ластени рано привыкла к своей безнадежной заброшенности, к унылому городку, где родилась и получала жалкую толику света, никогда не видя горизонта из-за сплошной стены гор, привыкла к безлюдью родного дома. Сословные перегородки, которые вскоре были сломаны, тогда еще существовали, и мадам де Фержоль, богатая и знатная, никого из соседей не принимала, поскольку среди них не было людей ее круга. Она приехала сюда с мужем, бездумно счастливая, и не нуждалась ни в каком обществе. Ей казалось, что чужие люди, приблизившись, способны повредить ее счастью и обесценить его. Когда смерть похитила ее любимого и счастье разрушилось, ей не понадобились утешители. Она продолжала жить в уединении, не выставляла горе напоказ, со всеми держалась учтиво и сдержанно, но неуклонно, хотя ненавязчиво, никого не оскорбляя, давала понять окружающим, что они ей неровня. Жители городка со своей стороны тоже научились держаться от нее на почтительном расстоянии. По происхождению и положению она была выше их, они понимали, что не вправе обижаться, к тому же объясняли ее необщительность скорбью о покойном. Все справедливо полагали, что в этой жизни вдову удерживает только дочь, знали, что баронесса богата и что в Нормандии у нее остались обширные владения, а потому заключали: «Она не из наших мест, вот придет пора выдавать дочку замуж, и уедут они в свои поместья». В округе не найти было подходящей партии для мадемуазель де Фержоль, а разве мадам расстанется с ней, коль скоро никогда от себя не отпускала, даже в монастырь в соседнем городе на воспитание не отдала.
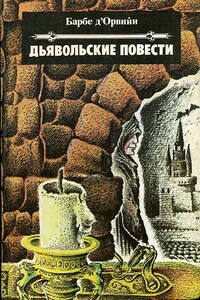
Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи».
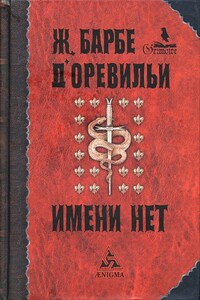
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.
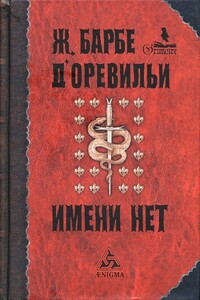
«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Моэма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.Новелла «Сумка с книгами» была отклонена журналом «Космополитен» по причине «безнравственной» темы и впервые опубликована в составе одноименного сборника (1932).Собрание сочинений в девяти томах. Том 9. Издательство «Терра-Книжный клуб». Москва. 2001.Перевод с английского Н. Куняевой.

Они встретили этого мужчину, адвоката из Скенектеди, собирателя — так он сам себя называл — на корабле посреди Атлантики. За обедом он болтал без умолку, рассказывая, как, побывав в Париже, Риме, Лондоне и Москве, он привозил домой десятки тысяч редких томов, которые ему позволяла приобрести его адвокатская практика. Он без остановки рассказывал о том, как набил книгами все поместье. Он продолжал описывать, в какую кожу переплетены многие из его книг, расхваливать качество переплетов, бумаги и гарнитуры.
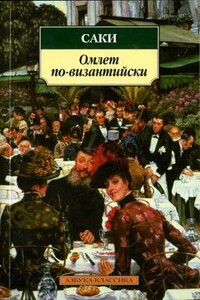
Вниманию читателей предлагается сборник рассказов английского писателя Гектора Хью Манро (1870), более известного под псевдонимом Саки (который на фарси означает «виночерпий», «кравчий» и, по-видимому, заимствован из поэзии Омара Хайяма). Эдвардианская Англия, в которой выпало жить автору, предстает на страницах его прозы в оболочке неуловимо тонкого юмора, то и дело приоткрывающего гротескные, абсурдные, порой даже мистические стороны внешне обыденного и благополучного бытия. Родившийся в Бирме и погибший во время Первой мировой войны во Франции, писатель испытывал особую любовь к России, в которой прожил около трех лет и которая стала местом действия многих его произведений.

Одноклассники поклялись встретиться спустя 50 лет в день начала занятий. Что им сказать друг другу?..
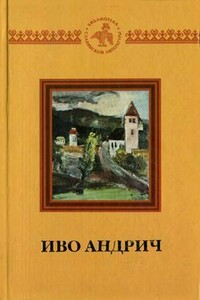
В том выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии, Иво Андрича (1892–1975) включены самые известные его повести и рассказы, созданные между 1917 и 1962 годами, в которых глубоко и полно отразились исторические судьбы югославских народов.
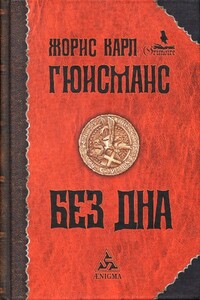
Новый, тщательно прокомментированный и свободный от досадных ошибок предыдущих изданий перевод знаменитого произведения французского писателя Ж. К. Гюисманса (1848–1907). «Без дна» (1891), первая, посвященная сатанизму часть известной трилогии, относится к «декадентскому» периоду в творчестве автора и является, по сути, романом в романе: с одной стороны, это едва ли не единственное в художественной литературе жизнеописание Жиля де Рэ, легендарного сподвижника Жанны д’Арк, после мученической смерти Орлеанской Девы предавшегося служению дьяволу, с другой — история некоего парижского литератора, который, разочаровавшись в пресловутых духовных ценностях европейской цивилизации конца XIX в., обращается к Средневековью и с горечью осознает, какая непреодолимая бездна разделяет эту сложную, противоречивую и тем не менее устремленную к небу эпоху и современный, лишенный каких-либо взлетов и падений, безнадежно «плоский» десакрализированный мир, разъедаемый язвой материализма, с его убогой плебейской верой в технический прогресс и «гуманистические идеалы»…
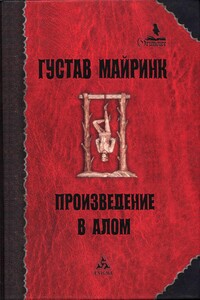
В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г.
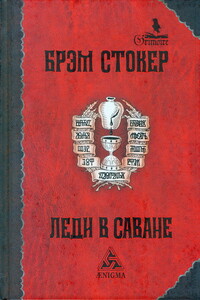
Вампир… Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX в., и кем бы ни был легендарный Носферату, а свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации…Издательство «Энигма» продолжает издание творческого наследия ирландского писателя Брэма Стокера и предлагает вниманию читателей никогда раньше не переводившийся на русский язык роман «Леди в саване» (1909), который весьма парадоксальным, «обманывающим горизонт читательского ожидания» образом развивает тему вампиризма, столь блистательно начатую автором в романе «Дракула» (1897).Пространный научный аппарат книги, наряду со статьями отечественных филологов, исследующих не только фольклорные влияния и литературные источники, вдохновившие Б.

«В начале был ужас» — так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — констатировал в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» один из самых странных писателей XX в., всеми своими произведениями подтверждая эту тезу.В состав сборника вошли признанные шедевры зловещих фантасмагорий Лавкрафта, в которых столь отчетливо и систематично прослеживаются некоторые доктринальные положения Золотой Зари, что у многих авторитетных комментаторов невольно возникала мысль о некой магической трансконтинентальной инспирации американского писателя тайным орденским знанием.
