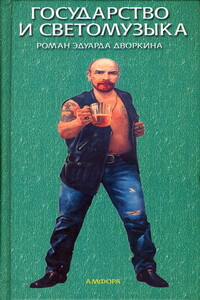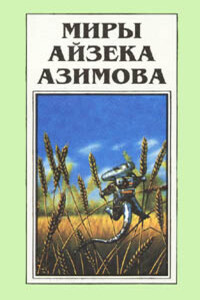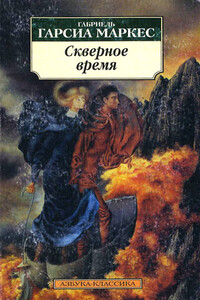Там, где скалы, неподвластные времени, спускались уступами в глубокий водоем, зеленый, как листва, бессмертный и смертный остановились.
И оба склонились над водой. И мечтатель, о котором я пишу, узрел свое сердечное желанье: как оно припало к источнику, словно горная лань, утоляя давнюю жажду. Ибо там, в воде, увидел он образы прекрасных слов, знакомые ему в своих смертных формах и красках; и одни из них текли, облекаясь плавучею мыслью, и сами будто превращались в мысль и облекали ее, как одеяние; другие же стояли неподвижно, как тростники в тенистой заводи, а плавучая мысль венчала их то короной, то диадемой, то шлемом, украшенным перьями.
А глубже, под водой, таились души слов — в бессмертных своих формах и красках. И увидел человек, что ничем не выманить их оттуда, из лиловых глубин, где они движутся в своем вечном танце неувядающей радости, и никакой мольбой и томлением мысли не досягнуть их.
И, наконец, увидел он токи тайных вод, что непрестанно увлекали эти порожденья радости вливаться в обличья смертной красоты и принимать те образы, что порою открывались ему в счастливые часы или во сне, но чаще — такие, каких он не видал еще никогда, ни в грезах наяву, и ни в сонном беспамятстве. И увидал он, как эти образы непрестанно сплетаются, и расплетаются вновь, и сплетаются вновь, по-иному. Гроздья несметных Плеяд кружили лабиринтом во тьме, наполненной жизнью. И громко вскричала от радости его душа.
И вздрогнул он, вновь услыхав жалобный плач зуйка. И огляделся вокруг, и увидел, что снова стоит на берегу реки, где нашел его странник; и странник тот по-прежнему рядом.
— Что это было?
Язык едва слушался его.
— Я дал тебе чашу, и ты испил, — раздалось в ответ. — Это Чаша, из которой испил Тристан — и полюбил Исельт такой любовью, что превыше всех мук смертной любви. Это Чаша Мудрости, которая дарует безумие и смерть, прежде чем даровать жизнь и знание.
И человек остался один, а Владыка Наваждений ушел: Пастырь мыслей и грез, блуждающих по Холмам Времени.
Но наутро (одно из многих утр, как две капли воды похожих на это, первое) мечтатель, о котором был мой рассказ, пробудился и понял, что тайна, которая ему открылась, — из рода бессмертных знаний, а потому ее нельзя ни высказать на смертном языке, ни придать ей форму смертной мыслью, ни расцветить ее красками смертного искусства.
Он заплатил сполна за эту мудрость. Таков закон.
Вновь попытавшись вложить красоту в мерцающие, неуловимые покровы слов, он с горечью увидел, что утратил даже то мастерство, которым когда-то владел. Слишком уж глубока была мудрость, которую он тщился изловить на мелководье своего несчастного, многострадального ума.
Какое-то время он еще боролся, словно пловец, увлеченный течением на глубину.
Но все ушло: и неповторимость слога, и секреты искусства, и навыки ремесла. Осталось лишь невнятное бормотанье. Потом не стало и того — пришла немота. И тогда сердце мечтателя разбилось, и он умер.
Но разве не показал ему Владыка Наваждений его сердечное желанье — и разве не исполнил его?
Настоящий перевод доступен по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.
Автор: Fiona McLeod
Перевод: Анна Блейз (с)